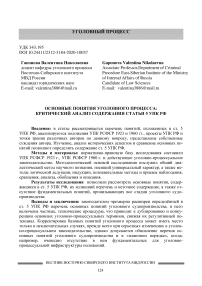Основные понятия уголовного процесса: критический анализ содержания статьи 5 УПК РФ
Автор: Гапонова Валентина Николаевна
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 2 (93), 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматривается перечень понятий, изложенных в ст. 5 УПК РФ, анализируются положения УПК РСФСР 1923 и 1960 гг., проекты УПК РФ и точки зрения различных авторов по данному вопросу, представлены собственные суждения автора. Изучение, анализ исторических аспектов и сравнение основных понятий позволяют определить содержание ст. 5 УПК РФ. Методы и материалы: нормативно-правовую базу исследования составили УПК РСФСР 1923 г., УПК РСФСР 1960 г. и действующее уголовно-процессуальное законодательство. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания. Результаты исследования: позволили рассмотреть основные понятия, содержащиеся в ст. 5 УПК РФ, их излишний перечень и неточное содержание, а также отсутствие фундаментальных понятий, пронизывающих все стадии уголовного судопроизводства Выводы и заключения: законодателем чрезмерно расширен определённый в ст. 5 УПК РФ перечень основных понятий уголовного судопроизводства, в него включены частные, технические процедуры, что приводит к дублированию и конкуренции основных уголовно-процессуальных терминов, снижая их регулятивный потенциал. Корректировка базовых понятий уголовного процесса может иметь место только в исключительных случаях, прежде всего при серьезных изменениях в уголовно-процессуальном законодательстве, однако допускается обновление перечня основных понятий уголовного судопроизводства и в «плановом порядке», когда, например, очевидно отсутствие в нем фундаментальных для уголовно-процессуальной инфраструктуры положений.
Уголовно-процессуальное, законодательство, уголовное судопроизводство, перечень, уголовное преследование
Короткий адрес: https://sciup.org/143173197
IDR: 143173197 | УДК: 343.195 | DOI: 10.24411/2312-3184-2020-10037
Текст научной статьи Основные понятия уголовного процесса: критический анализ содержания статьи 5 УПК РФ
В структуре всех отечественных Уголовно-процессуальных кодексов как неотъемлемый их элемент формируется и выделяется перечень понятий (терминов), имеющих общий характер, отражающих в системном единстве основное содержание уголовного процесса. При надлежащем корректном отборе включаемых в такой пере-
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ чень уголовно-процессуальных понятий, ознакомление с ними позволяет составить целостное представление о назначении уголовного судопроизводства.
Обращение к ст. 23 УПК РСФСР 1923 г. показывает, что в ней объединялось 13 терминов с разъяснением их значения. Можно утверждать, что приведенный в ст. 23 УПК РСФСР перечень был чрезмерно лаконичен и не в полной мере раскрывал содержание уголовного судопроизводства того времени. Но бесспорно то, что он включал действительно основные, общие понятия, используемые в законе.
Применительно к УПК РСФСР 1960 г. надлежит отметить, что в нем также был реализован подход, согласно которому выделялись и разъяснялись главные понятия кодекса (перечень их уже насчитывал 18). Правоприменитель также ориентировался на единообразное их толкование и применение.
Проявляя последовательность, законодатель при принятии УПК РФ 2001 г. не только сохранил указанный прием нормотворческой техники, но и существенно расширил набор основных понятий, в том или ином варианте «внедренных» в нормативную ткань кодекса. На момент принятия УПК РФ в нем (ст. 5) насчитывалось 60 таких понятий, еще 10 введено за годы действия кодекса. Отчетливо проявившаяся тенденция на увеличение, причем значительное, понятийного аппарата, базовых категорий уголовного процесса воспринимается нами неоднозначно. Представляется, что законодатель стал терять «чувство меры» и не всегда следует критериям, которым должны соответствовать основные понятия уголовного судопроизводства1.
В теории уголовного процесса предприняты весьма успешные попытки выделить критерии классификации понятий, используемых в УПК РФ в качестве основных.
Так, например, по мнению В.В. Николюк, в ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» должны включаться те положения уголовного процесса, которые отвечают следующим требованиям: 1) то или иное понятие носит общий характер для всего уголовного судопроизводства или его отдельных стадий; 2) правильное уяснение содержания используемых законодателем понятий имеет важное значение для правоприменителя при осуществлении им процессуальных действий и принятии процессуальных решений, а для иных участников уголовнопроцессуальных отношений необходимо для защиты своих прав и законных интересов; 3) соответствующий термин не раскрывается в уголовно-процессуальных нормах, регулирующих конкретные вопросы досудебного и судебного производства по уголовному делу [8, c. 152].
Анализируя с этих позиций содержание ст. 5 УПК РФ, нельзя не обратить внимание на то, что отдельные включенные в нее понятия не соответствуют указанным доктринальным критериям.
В п. 24.1 ст. 5 УПК РФ дается характеристика следственному действию, предусмотренному ст. 186.1 УПК РФ «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». С учетом подробного, детального в ней регулирования оснований и порядка производства данного следственного дей-
1 Интересно отметить, что, например, проект УПК РФ, разработанный Министерством юстиции РФ, и во многом определивший содержание действующего УПК РФ, предлагал более скромный (состоящий из 16 пунктов) перечень наименований, которые специально разъяснялись как основные понятия уголовного процесса (Министерство юстиции РФ: Проект Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М., 1997. Ст. 6).
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ ствия непонятен смысл включения в ст. 5 УПК РФ дополнительных к нему разъяснений. Если следовать этому подходу, тогда в ст. 5 УПК РФ необходимо будет дать краткую характеристику и другим следственным действиям. Однако кроме неоправданного дублирования такой прием законодательной техники никакого положительного эффекта не даст.
При выделении в структуре УПК РФ специальной гл. 3 «Уголовное преследование», где раскрыто содержание уголовного преследования, указаны его виды, субъекты, вряд ли можно было ожидать, что в п. 55 ст. 5 УПК РФ законодатель станет разъяснять значение этого термина. Причем здесь не обошлось только одним дублированием п. 55 ст. 5 УПК РФ и ч. 2 ст. 21 УПК РФ. В указанных нормах дается разная трактовка объема процессуальной деятельности, охватываемой понятием «уголовное преследование»: в ч. 2 ст. 21 УПК РФ уголовное преследование отождествляется с деятельностью прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя по установлению события преступления и изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. В п. 55 ст. 5 УПК РФ рамки уголовного преследования ограничены изобличительной деятельностью подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Как видим, допущены серьезные расхождения в толковании термина «уголовное преследование» в результате несогласованности п. 55 ст. 5 и гл. 3 УПК РФ.
Можно привести и другие примеры, когда законодатель дважды дает дефиниции одного и того же понятия. Это имеет место применительно к фигурам следователя (п. 41 ст. 5 и ч. 1 ст. 138 УПК РФ), руководителя следственного органа (п. 38.1 ст. 5 и ч. 5 ст. 39 УПК РФ).
С учетом приведенных примеров можно констатировать, что одна из серьезных проблем, возникающих у законодателя при конструировании ст. 5 УПК РФ, которую он решает не совсем профессионально, это включение в нее понятий, терминов, уже получивших детальное разъяснение и раскрытие «внутри» кодекса. Малейшие неточности и расхождения в этом случае между нормами-дефинициями, представленными в ст. 5 УПК РФ, и первоисточником (нормы, регулирующие конкретные группы однородных уголовно-процессуальных отношений) размывают цельность правового регулирования, создают конкуренцию и подрывают авторитет закона.
Нуждается в пояснениях и следующий ход законодателя применительно к выбору им положений со статусом «основного понятия». В п. 1 ст. 5 УПК РФ дано определение алиби (нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте). В тексте иных статей Кодекса термин «алиби» не фигурирует, в связи с чем возникает закономерный вопрос: какой практический смысл обозначать в качестве одного из основных понятий уголовного процесса положение, которое не является рабочим, не участвует в уголовно-процессуальном регулировании? Ответить на поставленный вопрос затруднительно. Если следовать логике законодателя, то наряду с «алиби» в перечне основных уголовно-процессуальных понятий должно быть отведено место и не менее популярному в области доказывания термину «улики».
При таком подходе ст. 5 УПК РФ рискует наполниться абстрактными нормативными дефинициями-декларациями (что уже отчасти произошло), потерять свой регулятивный потенциал и дистанцироваться от реального правоприменения. Назначение же норм, образующих систему базовых понятий уголовного процесса, заключа-
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ ется как раз в том, чтобы обеспечить удобство и простоту в пользовании нормами Кодекса, объединяющего огромный правовой массив.
Сравнительный анализ ст. 34 УПК РСФСР и ст. 5 УПК РФ показывает, что «кратное» увеличение в действующем уголовно-процессуальном законе положений, отнесенных к разряду основных, произошло преимущественно за счет привлечения терминов, отражающих новые, не известные ранее отечественному уголовному судопроизводству либо возрожденные институты и процессуальные формы (реабилитация, суд присяжных, досудебное соглашение о сотрудничестве, стороны).
Одновременно ст. 5 УПК РФ насыщена техническими по сути предписаниями, роль и значение которых в уголовно-процессуальных правоотношениях не стоит преувеличивать. Иллюстрацией к сказанному могут служить пункты 13 и 29 ст. 5 УПК РФ, раскрывающие соответственно содержание понятий «избрание меры пресечения» и «применение меры пресечения».
Во-первых, нет очевидных, лежащих на поверхности причин для позиционирования указанных процессуальных действий как основных, ключевых в архитектонике уголовного судопроизводства. Точно также можно было остановить выбор на таких понятиях, как «применение меры процессуального принуждения» или «производство следственного действия».
Во-вторых, предложенное законодателем разъяснение термина «применение меры пресечения» как процессуальных действий, осуществляемых с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения, имеет локальное значение и носит частный характер.
В-третьих, нельзя признать удачным и сам текст п. 29 ст. 5 УПК РФ, дословное прочтение которого приводит к выводу о том, что применение меры пресечения сопровождается самостоятельными процессуальными действиями наряду с избранием, отменой или изменением меры пресечения. Такое представление о структуре мер пресечения весьма условно и неточно. В текстах ряда статей гл. 13 «Меры пресечения» термины «применение меры пресечения» и «избрание меры пресечения» используются как тождественные, не противопоставляются. В чистом виде понятие «применение меры пресечения» в отрыве от избрания, отмены или изменения меры пресечения, продления срока ее действия просто не существует.
В процессуальной литературе правильно, на наш взгляд, обращается внимание на «перегруженность» ст. 5 УПК РФ в ущерб продуманности, целесообразности и точности помещенных в ней формулировок.
Так, Е.Н. Арестова предложила исключить из ст. 5 УПК РФ пункты 47 (в нем раскрывается значение термина «сторона обвинения») и 58 (приводится значение термина «участники уголовного судопроизводства») как «неточные, вызывающие трудности в интерпретации, к тому же не востребованные в практике уголовного судопроизводства» [1, c. 15]. На многочисленные неточности, допущенные при раскрытии значения конкретных терминов, фигурирующих в ст. 5 УПК РФ, также указывает В.В. Николюк [8, c. 155–56].
Таким образом, подмена действительно значимых, институциональных понятий уголовного процесса частными нормативными предписаниями техникопроцедурного характера, «вырванными» из контекста соответствующих разделов, глав и даже отдельных статей УПК РФ, препятствует выстраиванию системы терми-
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ нов и понятий, способных придать правовым уголовно-процессуальным конструкциям требуемую ясность как обязательного условия единообразного понимания и точного применения процессуальных норм.
Учитывая место в Кодексе перечня основных уголовно-процессуальных понятий (он размещен в одном разделе с другими базовыми процессуальными конструкциями, принципами уголовного судопроизводства), от них ожидается не столько непосредственное участие в правовом регулировании, сколько их влияние на уяснение смысла закона.
Исследуя назначение ст. 5 УПК РФ, А.М. Баранов и К.Н. Смирнова приходят к оригинальному выводу, что «основные понятия УПК РФ, собранные воедино и поименованные так законодателем, будучи рассматриваемыми в системе, выражают сущность судопроизводства, фактически являются “кратким справочником (словарем)” уголовного судопроизводства России» [2, с. 170]. Данная точка зрения дискуссионна. С одной стороны, здесь с авторами следует согласиться, размещение перечня основных понятий уголовного судопроизводства в разделе 1 УПК РФ «Основные положения», по соседству с нормами, определяющими назначение уголовного процесса, его принципы как наиболее общие и значимые требования системообразующего характера к порядку уголовного судопроизводства [4, c. 12], безусловно, указывает на главный критерий отбора конкретных нормативных предписаний, могущих претендовать на включение в ст. 5 УПК РФ: они должны отражать назначение и инфраструктуру отечественного уголовного процесса - систему его стадий, институтов, особые порядки производства.
С другой стороны, вряд ли конструктивно и оправданно на примере ст. 5 УПК РФ проводить параллель между комплексом основных понятий уголовного судопроизводства и справочником (словарем) в сфере уголовно-процессуальной деятельности. Словарь как собрание, сборник слов с приведением их значения, и справочник как издание практического назначения с кратким изложением в систематической форме сведений о конкретной области деятельности, имеют иное функциональное назначение, составляются по специальным правилам. Справочники и словари в силу своей служебной роли аккумулируют подробную, детальную информацию о каком-либо феномене и поэтому объективно не могут «отсекать» относящиеся к нему важные сведения. В связи с этим не случайно изданный в 2008 г. Словарь-комментарий к УПК РФ объединил более 300 понятий [10].
Выделение в УПК РФ рубрики, посвященной расшифровке основных уголовно-процессуальных терминов, размещение в ней лишь части понятийного аппарата Кодекса, ориентированного на институциональные основы российского уголовного судопроизводства, акцентирует внимание на особой роли в уголовно-процессуальных правоотношениях положений, включенных в ст. 5 УПК РФ в виде соответствующих дефиниций. Последние, если они прошли надлежащий отбор, обеспечивают удобство в правоприменении.
В заключение представляется целесообразным затронуть и следующий вопрос. В процессуальной литературе законодатель часто упрекается в чрезмерном расширении в ст. 5 УПК РФ перечня основных понятий уголовного судопроизводства, включении в него частных, технических процедур, что приводит к дублированию и конкуренции основных уголовно-процессуальных терминов, снижает их регулятивный по тенциал. Однако к этому его косвенно «подталкивают» многочисленные доктринальные, особенно диссертационные исследования, в которых «правилом хорошего тона» стало внесение предложений о дополнении ст. 5 УПК РФ теми или иными определениями [3, c. 12; 6, с. 7; 7, с. 16; 9, с. 22; 11, с. 11 и др.]. Поэтому любые попытки изменить содержание ст. 5 УПК РФ на всех уровнях, в том числе на доктринальном, требуют объективной научной экспертизы. В противном случае ст. 5 УПК РФ пополнится десятками новых дефиниций, что приведет к нарушению разумного баланса соотношения общих и конкретизирующих их правовых предписаний.
Придерживаясь мнения, что корректировка базовых понятий уголовного процесса может иметь место только в исключительных случаях, прежде всего при серьезных изменениях в уголовно-процессуальном законодательстве, автор статьи в то же время допускает обновление перечня основных понятий уголовного судопроизводства и в «плановом порядке», когда, например, очевидно отсутствие в нем фундаментальных для уголовно-процессуальной инфраструктуры положений. Нет сомнений в том, что в круг «подлинно основных понятий», к которым А.М. Баранов и К.Н. Смирнова относят «досудебное производство», «защиту», «обвинение», «приговор», «реабилитацию», «суд», «судебное разбирательство», «уголовное дело», «уголовное преследование», «уголовное судопроизводство» [2, c. 79], необходимо включить понятие «уголовное правосудие». Последнее распространяется на все этапы производства по уголовному делу, на всех должностных лиц и органы, осуществляющие уголовнопроцессуальную деятельность. Правосудие является фундаментальным, стержневым понятием для всего уголовного процесса [5, c. 387] и довольно странно, что до сих пор оно не закреплено в ст. 5 УПК РФ.
Итак, формирование в УПК РФ перечня основных понятий уголовного судопроизводства с разъяснением их значения и объединением в самостоятельной статье продолжает заложенную в УПК РСФСР 1923 г. традицию, позитивно воспринимаемую вот уже на протяжении почти столетия. Содержание ст. 5 УПК РФ громоздко, в нее неоправданно включен ряд понятий и терминов, имеющих частный, процедурнотехнический характер. Кроме того, отдельные понятия выражены в ст. 5 УПК РФ неточно, что приводит к конкуренции правовых предписаний и осложняет правоприменение. Изменение относительно устоявшегося набора основных понятий уголовного процесса, зафиксированного в ст. 5 УПК РФ, должно происходить в исключительных случаях, как правило, при внесении в УПК РФ существенных дополнений.
Список литературы Основные понятия уголовного процесса: критический анализ содержания статьи 5 УПК РФ
- Арестова Е.Н. О некоторых проблемах понятийного аппарата УПК РФ // Рос. следователь. - 2015. - № 19. - С. 12-16.
- Arestova E.N. About some problems of the conceptual apparatus of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation // Rus-sian investigator. - 2015. - No 19. - PP. 12-16.
- Баранов А.М., Смирнова К.Н. Основные понятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: монография. - М., 2015. - 216 с.
- Baranov A.M., Smirnova K.N. Basic concepts of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federa-tion: monograph. - M., 2015. - 216 p.
- Баскакова В.Е. Возобновление производства по уголовному делу ввиду но-вых обстоятельств (вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2009. - 24 с.
- Baskakova V.E. The resumption of criminal proceedings due to new circumstances (theory and practice): author. dis.... cand. legal sciences. - Ye-katerinburg, 2009. - 24 p.
- Безруков С.С. Принципы уголовного процесса: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - М., 2016. - 58 с.
- Bezrukov S.S. The principles of the criminal process: abstract. dis.... doctor. legal sciences. - M., 2016. - 58 p.
- Безруков С.С. Теоретико-правовые проблемы системы и содержания принци-пов уголовного процесса: монография. - М., 2016. - 560 с.
- Bezrukov S.S. Theoretical and legal problems of the system and content of the principles of the criminal process: monograph. - M., 2016. - 560 p.
- Комиссаренко Е.С. Следственные действия в уголовном процессе России: ав-тореф. дис. … канд. юрид. наук. - Саратов, 2005. - 27 с.
- Komissarenko E.S. Investiga-tive actions in the criminal process of Russia: author. dis.... cand. legal sciences. - Sara-tov, 2005. - 27 p.
- Марковичева Е.В. Концептуальные основы ювенального уголовного судо-производства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - Екатеринбург, 2011. - 482 с.
- Mar-kovicheva E.V. Conceptual foundations of juvenile criminal proceedings: abstract. dis.... doctor. legal sciences. - Yekaterinburg, 2011. - 482 p.
- Николюк В.В. О совершенствовании статьи 5 УПК РФ // Актуальные пробле-мы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов ХII междунар. научн.-практ. конф. (19-20 февраля 2009 г.). Ч. 2. - Красноярск, 2009. - С. 152-156.
- Nikolyuk V.V. On improving article 5 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation // Actual problems of the fight against crime in the Siberian region: Sat. Materi-als X11 Int. scientific-practical conf. (February 19-20, 2009). Part 2. - Krasnoyarsk, 2009.- PP. 152-156.
- Орлова А.А. Концепция реабилитации и организационно-правовые механиз-мы ее реализации в российском уголовном процессе: автореф. дис. … д-ра юрид наук. - М., 2013. - 58 с.
- Orlova A.A. The concept of rehabilitation and the organizational and legal mechanisms for its implementation in the Russian criminal process: abstract. dis.... doctor. juridical sciences. - M., 2013. - 58 p.
- Словарь-комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под науч. ред. И.В. Смольковой. - М., 2008.
- Dictionary-commentary on the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation / under scientific. ed. I.V. Smol-kova. - M., 2008.
- Тутынин И.Б. Наложение ареста на имущество как мера уголовно-процессуального принуждения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 2005. - 33 с.
- Tutynin I. B. seizure of property as a measure of criminal procedural coercion: Author. dis.... cand. legal sciences. - M., 2005. - 33 p.