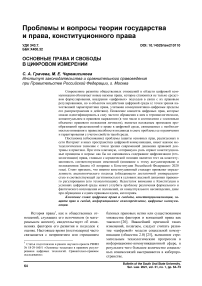Основные права и свободы в цифровом измерении
Автор: Грачева Светлана Александровна, Черемисинова Мария Евгеньевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории государства и права, конституционного права
Статья в выпуске: 1 т.21, 2021 года.
Бесплатный доступ
Современное развитие общественных отношений в области цифровой коммуникации обозначает новые вызовы праву, которое становится не только средством формулирования, внедрения «цифровых» подходов в связи с их правовым регулированием, но и объектом воздействия цифровой среды (с точки зрения качественной характеристики права, учитывая коммуникативно-цифровые пределы его распространения и действия). Появление концепта цифровых прав, которые можно идентифицировать в силу частого обращения к ним в терминологическом, концептуальном и правовом выражении (в том числе в соотнесении с «основным объемом» правового положения личности), является наглядным признаком преобразований представлений о праве в цифровой среде, связываемых с необходимостью внимания к правоспособности индивида в свете проблемы ее ограничения и гарантирования с учетом свойств такой среды. Постановка (обоснование) проблемы защиты основных прав, реализуемых в сети Интернет и иных пространствах цифровой коммуникации, имеет важное методологическое значение с точки зрения современной динамики правовой доктрины и практики. При этом ключевую, «отправную» роль играют конституционные принципы и нормы: как бы ни оценивалось содержание цифровизации (технологизации) права, главным с юридической позиции является тест на конституционность соответствующих изменений (внимание к этому актуализировано и положениями Закона «О поправке к Конституции Российской Федерации» 2020 года). Стоит признать, что именно конституционный стандарт проявляет определенность аксиологического подхода (обладающего достаточной универсальностью и соответствующей легитимностью) в условиях высокой динамики правового регулирования (его технологизации). Недостаток внимания к Конституции в условиях цифровой среды может углубить проблему различения формального и фактического воплощения ее положений, их концептуального несовпадения, даже при обращении к одним правовым идеям, категориям.
Цифровые права и свободы, конституционализация, защита прав и свобод, информационное самоопределение, цифровые коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/147233333
IDR: 147233333 | УДК: 343.7 | DOI: 10.14529/law210110
Текст научной статьи Основные права и свободы в цифровом измерении
История права1, как и общественных отношений, служащих его источником (в материальном аспекте), свидетельствует об изменениях факторов его развития и подходов к оценке. Настоящее время (постмодерна) часто связывается с непринятием или отрицанием
Статья подготовлена в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование».
базовых правовых истин или существованием множества факторов и концепций права как такового [20]. Важнейшей причиной таких изменений, полагаем, следует считать развитие «цифровой» модели социальной коммуникации (общества 2.0) [25], вызванное стремительным технологическим прогрессом в информационно-коммуникационной сфере, в результате чего большое количество социальных взаимосвязей выстраивается в киберпространстве.
Согласимся, что «сегодня зарождается новое право - «право второго модерна», регулирующее экономические, политические и социальные отношения в контексте мира цифр, больших данных, роботов, искусственного интеллекта» [4]. Не исключено, что в перспективе можно будет вести речь о цифровых традициях в праве или же о выделении цифрового права в числе других его областей. Однако современный «виртуальный» ракурс права, как правило, предполагает приспособление регулирования к отношениям, развивающимся в интернете и иных зонах цифровой коммуникации. Закономерно ставится вопрос о недостаточно определенных для права сферах цифрового мира [17, 23].
Новая цифровая среда как пространство, где лица, объединения, акторы гражданского общества организуют и осуществляют свою активность, воспринимается как своего рода «естественное благо», соответственно влияющее на идентичность всех ее участников а, значит, на их положение в системе социальных и правовых координат. Все более осознаваемой (на различных уровнях правового общения) становится потребность юридической идентификации личности в цифровом пространстве (тем более с учетом вопроса «информационно-цифрового портрета личности», содержащихся в нем данных) [2], развития правового обеспечения положения индивидов применительно к специфике отношений в данной среде, обладающей признаками транс-граничности и виртуальности, когда субъекты и объекты порой характеризуются как «симуляции». При этом риски правового положения личности, его традиционных гарантий могут оцениваться как довольно масштабные, вплоть до того, что «классические» права человека подвергаются новым испытаниям после того, как их удалось «отбить» у тоталитарных режимов [5]. Это отчетливо проявляется в условиях пандемии (объявленной в рамках Вступительного слова Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 11 марта 2020 г.), когда, с одной стороны, технологии - несомненное социальное благо (содействующее сохранению жизни и здоровья), с другой стороны, их регулирование пока можно оценивать как во многом неопределенное, что связано со многими сложностями технологического, правового, институционального порядка.
Концепт цифровых прав и его «основное»
содержание. При развитии представлений о правах и свободах личности, с учетом их ограничений и гарантий, в том числе в связи с целями обеспечения рационального и безопасного пространства ее функционирования в интернете, получает распространение идея цифровых прав (именуемых также интернет-права, сетевые/коммуникационные права). На данном этапе в качестве релевантного для оценки можно рассматривать термин «цифровые свободы» («интернет-свободы»), поскольку цифровые права человека как нормативно установленная мера возможного поведения, ее критерии вряд ли можно полагать устойчивыми.
Первичными субъектами, обеспечивающими обращение и распространение категории (идеи) цифровых прав, являются саморе-гулируемые интернет-сообщества, принимающие акты рекомендательного характера: в их числе, например, объединение European Digital Rights (EDRi), включающее европейские правозащитные организации из более чем двадцати стран, осуществляющих деятельность по продвижению, защите и поддержке фундаментальных прав и свобод человека в цифровой среде [22]. Закономерно, что определение цифровых прав часто дается или предполагается в широком (социологическом) значении: «расширение и применение универсальных прав человека к потребностям общества, основанного на информации» [1]. Данный подход к определению цифровых прав в целом встречается и в российской правовой доктрине [4].
При правовом регулировании (на различных его уровнях) во многом заметна тенденция сдержанного принятия идеи цифровых прав в ее комплексном понимании. В основном в рекомендательно-декларативных документах (начиная с тех, которые имеют универсальное значение) указывается на наличие прочной связи таких прав с основными правами, равно как и с фундаментальными концепциями права. Среди таких актов - принятые в рамках ООН Резолюция о защите и осуществлении прав человека в Интернете от 27 июня 2016 г., Резолюция о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровой век от 18 декабря 2013 г. Аналогичные акты разработаны в рамках региональных межгосударственных (наднациональных) объединений (например, Декларация Комитета министров Совета Европы о правах человека и верховен- стве права в Информационном обществе от 13 мая 2005 г.). При этом на региональном уровне чаще встречается более специальное нормативно-договорное регулирование (в частности, Акт ЕС о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных от 27 апреля 2016 г.).
Довольно разнообразен опыт регламентации вопросов цифровых прав и связанных с ними отношений в национальных правопо-рядках – Закон Бразилии о порядке использования Интернета от 23 апреля 2014 г., Декларация Италии о правах в Интернете от 28 июля 2015 г., Акт Новой Зеландии о вредных цифровых коммуникациях (от 13 июля 2015 г.), Закон Франции о цифровой республике от 7 октября 2016 г. Названные акты позволяют дать представление о моделях оценки проблематики цифровых прав в национальных системах.
В то же время в современном правоведении крупнее обозначается вопрос о том, обладают ли цифровые права самостоятельными признаками [22, 19], позволяющими идентифицировать их как отличные или производные от других (сложившихся) групп прав (с учетом их деления по поколениям, отраслевой характеристике, защищаемым благам, степени универсальности). Такая проблематика не всегда очевидна в силу получивших распространение подходов, в числе которых подтвержденный Генеральной Ассамблеей ООН: права, которые человек имеет офлайн (англ. offline – вне сети), должны защищаться и онлайн (англ. online – в интернете) (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 г. № A/RES/68/167). В силу данного принципа все известные права, гарантированные юридически и действующие в реальном мире, по умолчанию экстраполируются на виртуальную среду. По меньшей мере, этим может обосновываться то, что категория цифровых прав служит целям обобщения уже сложившихся в физической среде прав, которые затрагивает цифровая реальность.
Между тем необходимость их содержательного осмысления, очевидно, определена, во-первых, значительным осложнением реализации (в случае уже существующих прав) в цифровой среде, одновременно влекущих вопросы обоснованности традиционных пределов их действия (ограничений) и правовой возможности гарантирования. В числе наибо- лее дискутируемых в этом отношении прав (общепризнанных правовых ценностей) выделяют свободу выражения мнения, неприкосновенность частной жизни. Во-вторых, с технологической спецификой виртуального пространства связывается естественное происхождение отдельных прав и свобод, например, право на доступ к сети интернет, на защиту данных, на анонимность/забвение и др., что также сочетается с вопросом о развитии прав нового поколения [3].
Тем самым ключевым для признания проблематики цифровых прав при развитии законодательства и правоприменения является решение вопроса их соотнесения с «основной» правоспособностью индивида. Вопрос сочетания цифровых прав с основными, имеющими конституционное закрепление и получающими реализацию в процессе цифровой коммуникации, обоснованно рассматривать прежде всего при внимании к конституционализации пределов ограничения, путей гарантирования таких прав (поэтому уместно вести речь о переосмыслении конституционных ценностей в части фрагментации сферы их действия и гарантирования). Но «целостное» признание рассматриваемого юридического концепта реализуемо лишь при учете появления новой основной правоспособности, которая несмотря на определенную производ-ность от традиционного конституционного положения в силу особости охраняемых и гарантируемых благ (как персональные данные, информационное забвение) требует их самостоятельного конституционного признания (в том числе с тем, чтобы исключить соотнесение таких благ не более чем со значимыми услугами). В этом отношении не менее актуальна (хотя менее определена в контексте перспектив регулирования) проблема соотношения цифровых прав с общепризнанными правами, принимая во внимание их вненациональную (трансграничную) технологическую специфику, с чем связаны прогнозы по универсализации правового режима их обеспечения.
Это значимо с позиции внимания к гарантиям положения личности в пространстве цифровых коммуникаций, по-своему может отражать увеличение масштаба конституционной среды под влиянием цифровых процессов, поскольку, действительно, «невозможно представить, что человеческая деятельность путем простого преодоления порога вирту- ального мира теряет конституционную защиту» [21].
Основные права и цифровой дискурс в российском конституционном контексте. Проблема правового положения личности в условиях цифровой среды все чаще обозначается в отечественной юридической доктрине, представителями которой признается, что «наступило время конкретизации прав и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реальности» [4].
Правовое регулирование в этом направлении развивается постепенно. В 2017 году были приняты такие значимые документы, как Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017– 2030 гг., программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (впоследствии утратила силу, но на ее основе появились соответствующие программные решения), в рамках которой в числе первых называлась проблема обеспечения прав человека в цифровом мире. Справедливо отмечается, что «сюжет о правах человека в цифровом мире изложен… [в документе], скорее, в прикладном экономическом аспекте» [18]. Например, приняты изменения Гражданского кодекса РФ, предполагающие рассмотрение цифровых прав как разновидность имущественных прав (токены) (Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ), что повлекло, как констатируется в литературе, «терминологическое противоречие». В целях его преодоления предлагается «использовать для публично-правового обозначения цифровых прав термин «двоичные (бинарные) права», который подчеркивает связь с цифровой передачей информации (bina-ry)» [13].
Соответственно о системном подходе в отношении правового положения личности в условиях цифровой среды говорить пока преждевременно. Причиной могут служить и сложившиеся общетеоретические и отраслевые подходы к праву: при обсуждении проблем правового регулирования вопросов обращения к интернет-технологиям внимание обращено к отрасли информационного права, предметом которой являются отношения в связи с получением, передачей, распространением информации [15]; сообразно этому цифровые права в основном считаются разновидностью информационных прав [9].
Обратим внимание на то, что хотя в сфере цифровой коммуникации именно информация является основным объектом взаимодействия, многие вопросы сосредоточиваются вокруг самого средства такой коммуникации (сети интернет). По меньшей мере, этим обусловливается специфика природы и значения «цифрового» правового воздействия, определяющего самостоятельность его предмета – включающего общественные отношения, возникающие и развивающиеся по поводу участия в цифровой среде (и при использовании для этого цифровых средств связи). Также в отдельных работах подчеркивается специфика методов (способов) регулятивного обеспечения соответствующих отношений, в числе которых рассматривается «саморегулирование и программный код» [16].
Запрос в российском правовом дискурсе на развитие представлений о правовой защите, обеспечении прав в пространстве виртуального мира определяет важность внимания к конституционализации «цифровых» изменений в законодательстве и правоприменении (в том числе в свете закона о поправке к Конституции РФ 2020 года). В противном случае велика вероятность возникновения рисков не только применительно к основным характеристикам правового положения личности, но и конституционному регулированию в целом – его соответствию как аксиологического стандарта правового регулирования современным условиям развития общественных отношений, определяемых возможностями цифровой среды.
Обратимся к обеспечению такой конституционной ценности, как неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), признание которой на конституционном уровне, согласно позиции Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ), означает и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера (Определение КС РФ от 10 февраля 2016 г. № 224-О). Понятие «частная жизнь» включает ту область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит непротивоправный характер (Определение КС РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О).
В условиях широкого применения компьютеризированных баз данных наблюдается эволюция права на частную жизнь – инфор- мационный аспект становится преобладающим (с учетом появления «цифрового портрета» каждого в «эпоху постприватности») [10]. Это сопровождается постепенным развитием и признанием на основе правовой идеи защиты частной жизни конституционного права на информационное самоопределение (the right to informational self-determination) (что в немалой степени также опосредуется и ст. 24 Конституции РФ) [6]. Такое «самоопределение» пронизано идеей конституционного запрета на вмешательство в частную жизнь лица, прежде всего в ее информационном выражении (формируемой с помощью средств цифровой связи), без его согласия.
Между тем в пространстве интернета сфера частной жизни (ее неприкосновенности) определяется проблемой контроля распространения данных со стороны их обладателя (в этом смысле его «информационной защитой»). Как отмечено Европейским Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ), ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («право на уважение частной и семейной жизни») предусматривает право на информационное самоопределение, предоставляющее лицам возможность ссылаться на свое право на частную жизнь относительно данных, которые, хотя и являются нейтральными, но собираются, обрабатываются и распространяются в совокупности в таком виде или тем способом, которые могут указывать на нарушение их прав, предусмотренных соответствующей статьей (постановления ЕСПЧ от 27 июня 2017 г., Satakunnan Markkinaporssi Oy; от 4 декабря 2008 г., S. and Marper).
При этом актуален вопрос об идентификации «публичности» цифровых данных с учетом того, что при наличии технической возможности получать и распространять (практически из любой точки мира) информацию с момента ее фактического размещения обладателем в сети стало заметно меньше определенности в оценке последней как личной или персональной, требующей конфиденциальности, а, значит, исключения ее распространения, использования без согласия обладателя [23, 16]. В соответствующих условиях для обеспечения неприкосновенности частной жизни важны не только ее границы в физическом значении, в большей мере связанные с характером передаваемой информации и ее сохранностью, но также цели и выбранный субъектом способ ее размещения, что могло бы свидетельствовать о значении данных сведений для субъекта с точки зрения их конфиденциальности.
Такой вектор правовой оценки, однако, может затрудняться развитием способов коммуникации и распространения информации, ее массовым характером размещения и обработки по технологии больших данных, в целом усложняющей возможность «индивидуализации» информации в цифровой среде. Это касается и той части информации, которая была «виртуализирована» в силу юридической необходимости, для получения доступа к различным социальным услугам (на основании пользовательских соглашений). Стоит учесть, что технология больших данных все более внедряется в правовую практику как инструмент развития и поддержания публично-правового порядка (в России при принятии пакета мер по противодействию терроризму: федеральные законы от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ, № 375-ФЗ) и даже в определенной части в наднациональной правовой практике (Постановление ЕСПЧ от 13 сентября 2018 г., Big Brother Watch) [11, 22], и также показывает, что определение баланса частного и публичного в области защиты данных во многом имеет поисковый характер.
В связи с последним отметим, что одной из ключевых идей развития области виртуальной реальности было анонимное общение и самовыражение, предполагающее широкий объем права на частную жизнь в цифровой среде (Доклад Специального докладчика по вопросу о праве на свободу убеждений и их выражение от 29 мая 2015 г. A-HRC-29-32-AEV). Несмотря на «естественное» значение для отношений в интернете права на анонимность, получающего признание в правовом регулировании (Рекомендация Комитета Министров Совета Европы о свободе в интернете от 13 апреля 2016 г.), повсеместно наблюдаются попытки его ограничения и введения четких механизмов идентификации. В России соответствующая тенденция также проявляется, например, в связи с принятием Федерального закона об «удаленной идентификации» от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ.
Очевидно, система интернет-комму-никаций требует оценки гарантий неприкосновенности частной жизни при том, что само содержание частной жизни в интернете не поддается точному определению, что становится предметом доктринального анали- за [14]. В целом можно вести речь об оформлении отдельных правовых концептов в области защиты данных и соответственно права на информационное самоопределение, которым постепенно придается конституционное значение. Это может происходить путем конкретизации известных конституционных инструментов, например Habeas data (лат. «имеешь сведения»), ядро которого определяется правом человека (гражданина) требовать в судебном порядке ознакомления с любыми касающимися его данными, или при развитии новых инструментов, таких как право на забвение (the right to be forgotten).
Практику КС РФ по вопросам обеспечения приватности в сети Интернет можно считать формирующейся. В числе знаковых его решение о том, несет ли оператор связи (владелец интернет-сервиса), посредством которого осуществляются отправка и получение электронных сообщений, обязанность обеспечивать тайну связи (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ), является ли он в этом смысле обладателем информации, содержащейся в сообщениях пользователей (Постановление от 26 октября 2017 г. № 25-П). Вкладом в развитие цифровых правоотношений стало признание КС РФ права на забвение в сети Интернет как производного от прав личности, гарантированных ст. 23 и 24 (ч. 1) Конституции РФ (Определение КС РФ от 26 марта 2019 г. № 849-О).
В качестве конституционной основы рассматриваемых отношений также можно рассматривать международные (европейские) правовые стандарты, например, закрепленные в Конвенции о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера (ратифицирована Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ).
Другой значимой конституционной ценностью, служащей своего рода базисом политико-правового положения личности, является свобода информации (как своего рода аналог «свободы выражения», «свободы слова») [21, 26]. Требующих внимания вопросов по теме свободы информации в интернете немало, в их числе: какова природа информации в интернете (можно ли ее считать массовой, публичной)? В каких случаях распространение информации может и должно быть ограничено (какая информация, важен ли способ передачи)? Кто может и должен нести ответ- ственность в случае появления противоправного контента (интернет-посредники, владельцы новостных порталов, пользователи и т.п.)? Внимание к этим вопросам актуализируется в свете усиления контроля за распространением информации в интернете. Известно, что чувствительным в российской практике стало законодательное введение возможности по предписанию прокуратуры производить без решения суда немедленную блокировку сайтов, распространяющих призывы к массовым беспорядкам и содержащих информацию экстремистского характера (по Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 398-ФЗ), а также принятие последующих мер по контролю свободы коммуникаций в цифровой среде.
Названные вопросы актуальны в целом для мировой правовой практики. Например, во Франции был подготовлен акт в рамках повышения эффективности в области внутренней безопасности (закон LOPPSI2) (уточненный в связи с решением Конституционного Совета Франции), предусматривающий административное блокирование интернет-сайтов (содержащих запрещенную к распространению информацию) при отсутствии предварительного судебного надзора. Рест-рикционистская модель регулирования ин-тернет-коммуникаций реализована в Турции, где интернет-ресурсы (по широкому кругу критериев противоправности) могут быстро блокироваться на основании решения кон-трольно-регулирующего органа. Соответствующие режимы регулирования неизбежно влекут постановку проблемы интернет-цензуры (Internet Censorship). Примечательно, что осторожную поддержку в этом отношении можно встретить и в наднациональной правовой практике: наглядным примером стало Постановление ЕСПЧ (от 16 июня 2015 г., Delfi AS), в рамках которого Суд согласился с национальными властями, что активные ин-тернет-посредники должны нести ответственность за размещенные пользователями комментарии (презумпция осведомленности) [12].
Вряд ли можно отрицать, что основные права и свободы, реализуемые в пространстве цифровой коммуникации, претерпевают изменения в связи с наличием технических возможностей почти неограниченного наблюдения, хранения и использования информации. При этом глобальная сеть может в этом контексте восприниматься не только как допол- нительное средство их реализации, но и одновременно как источник правовых рисков с точки зрения изменения объема основных прав или даже изменения их существа, выявления новой их составляющей, например, при обосновании права на доступ к сети Интернет, права на защиту от информации и т.д.
Другая важная проблема – определение субъектов реализации и обеспечения прав в цифровой среде, с учетом широкого круга которых цифровые права во многом продолжают восприниматься как неопределенная и са-морегулируемая зона, что также требует конституционного ответа.
В целом субъектная модель права, традиционно определяемая по формуле «индивиды (их объединения) – народ (общество) – государство (публичные образования)», не столь очевидно определяется в цифровой среде. Так называемое население виртуального пространства рассматривается обобщенно и обозначается единой категорией – сетевые акторы, или мультистейкхолдеры (в переводе с англ. – множество заинтересованных сторон) [24, 8], что отвечает архитектуре глобальной сети. Их взаимодействие можно рассматривать как стратегическое партнерство или соревнование, сотрудничество и конкуренцию [24, 8]. Этот фактор может требовать внимания при постановке проблемы «баланса» в правовом регулировании цифровых отношений, традиционно измеряемой сочетанием коллективных и частных интересов.
С этим же связано развитие представлений о конституционной власти в цифровом измерении: очевидно, что деятельность в глобальной сети не вполне способствует выражению идеи субъекта конституционной власти с точки зрения ее источника и носителя, однако оценки этого особенно важны в том случае, если мы говорим о наличии самостоятельной виртуальной среды правового регулирования (что в зарубежном правоведении нередко обосновывается при внимании к явлению цифрового конституционализма) [21]. При этом значимым является обращение к «возможностям саморегулирования и этического регулирования», не исключающее и «модель, основанную на делегировании государством части своих функций по регулированию цифровых технологий профессиональным сообществам в этой сфере» [7].
В заключение подчеркнем, что идея конституционализации цифровой среды, первым этапом которой могло бы стать обозначение конституционно-правовой защиты цифровых прав, особенно актуальна при необходимости определения ценностных ориентиров в регулировании цифровых отношений. Импульс этому придают конституционные формулы (внимание к теме вызвали и недавние изменения Конституции РФ).
Вопросы конституционной защиты и гарантирования прав с учетом технологоцифрового контекста сопряжены с необходимостью их соответствующего «прочтения», что в основном происходит (как показывает практика) в рамках судебного правоприменения. В ином случае конституционная правоспособность применительно к области цифровой коммуникации может получать более формально-номенклатурное или утилитарное внимание (как в случае рассмотрения цифровых прав не более чем в имущественном значении).
Список литературы Основные права и свободы в цифровом измерении
- Беккер, К. Словарь тактической реальности / К. Беккер. – М., 2004. URL: http://you-books.com/book/K-Bekker/Slovar-takticheskoj-realnosti-Kulturnaya-intellige.
- Бондарь, Н. С. Информационно-цифровое пространство в конституционном измерении: из практики Конституционного Суда Российской Федерации / Н. С. Бондарь // Журнал российского права. – 2019. – № 11. – С. 25–42.
- Варламова, Н. В. Цифровые права – новое поколение прав человека? / Н. В. Варламова // Труды Института государства и права РАН. – 2019. – Т. 14. – № 4. – C. 9–46.
- Зорькин, В. Д. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского международного юридического форума / В. Д. Зорькин // Российская газета. – 2018. – 29 мая.
- Ковлер, А. И. Права человека в цифровую эпоху / А. И. Ковлер // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. – 2019. – № 6 (204). – С. 146–150.
- Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. В. Д. Зорькина. – М.: Норма, Инфра-М, 2011.
- Минбалеев, А. В. Трансформация регулирования цифровых отношений / А. В. Минбалеев // Вестник Университета МГЮА им. О. Е. Кутафина. – 2019. – № 12. – С. 31–36.
- Минервин, И. Г. Культура и этика в экономике: социокультурные факторы экономического роста / И. Г. Минервин. – М.: ИНИОН, 2011. – 245 с.
- Наумов, В. Б. Негативные закономерности формирования понятийного аппарата в сфере регулирования Интернета и идентификации / В. Б. Наумов // Информационное право. – 2018. – № 1. – С. 32–39.
- Пази, М. Кибер-ДНК / М. Пази // «Русский репортер». – 2019. – № 16 (481). URL: https://expert.ru/russian_reporter/2019 /16/kiber-dnk/.
- Русинова, В. Н. Легализация «массовой слежки» Европейским Судом по правам человека: что стоит за постановлением по делу Биг Бразер Вотч и другие против Соединенного Королевства? / В. Н. Русинова // Международное правосудие. – 2018. – № 4. – С. 3–20.
- Соболева, А. К. Свобода выражения мнения в практике Европейского Суда: старые подходы и новые тенденции в толковании статьи 10 ЕКПЧ / А. К. Соболева // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2017. – Т. 21. – № 2. – С. 235–262.
- Талапина, Э. В. Эволюция прав человека в цифровую эпоху / Э. В. Талапина // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2019. – № 3. – С. 122–146.
- Телина, Ю. С. Конституционное право гражданина на неприкосновенность частной жизни, линую и семейную тайну при обработке персональных данных в России и зарубежных странах: дис. … канд. юрид. наук / Ю. С. Телина. – М., 2016. – 266 с.
- Терещенко, Л. К. Загадки информационного права / Л. К. Терещенко, О. Е. Стародубова // Журнал российского права. – 2017. – № 7. – С. 156–161.
- Федотов, М. А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства / М. А. Федотов // Lex russica. – 2016. – № 3 // СПС «КонсультантПлюс».
- Хабриева, Т. Я. Право в условиях цифровой реальности / Т. Я. Хабриева, Н. Н. Черногор // Журнал российского права. – 2018. – № 1. – С. 85–102.
- Шахрай, С. М. «Цифровая» Конституция. Судьба основных прав и свобод личности в тотальном информационном обществе / С. М. Шахрай. URL: http://www.isprras. ru/pics/File/News/Doklad_20042018.pdf.
- Blaschke Y. Digital rights as a security objective: New gateways for attacks Available at: edri.org/donate/.
- Balkin M. Jack. What is a Postmodern Constitutionalism? (1992). Faculty Scholarship Series. Paper / Available at: pdfs.semanticscholar.org/7e36/4a0ee83cea5d7ec58da9a2635fac98f0c7d1.pdf.
- Celeste Ed. The Irish Constitution and the Challenges of the Digital Age. Is it Time for a BunreachtnahEireann 2.0? Available at: ulsites.ul.ie/law/papers-constitution-80-conference.
- Fetscherin M. CDPresent State and Emerging Scenarios of Digital Rights Management Systems // The International Journal on Media Management, Vol. 4, no. 3, 2002, pp. 164–171.
- Lessig L. Reading the Constitution in Cyberspace, 45 Emory Law Journal, 1996, 3. Available at: papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=41681.
- Malcolm J. Multi-Stakeholder Governance and the Internet Governance Forum. Terminus Press. Perth, 2008, 611 p.
- O'Reilly T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Available at: web.archive.org/web/20080725092148/http://www.oreillynet.com/go/web2.
- Roudik P. Freedom of speech, Internet, Protest and dissent, Right of privacy. Available at: www.loc.gov/law/foreign-news/article/russia-new-legislation-restricts-anonymity-of-internet-users/.