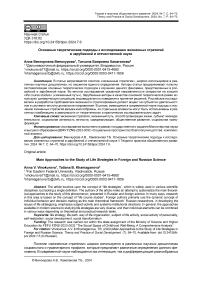Основные теоретические подходы к исследованию жизненных стратегий в зарубежной и отечественной науке
Автор: Винокурова А.В., Хамаганова Т.Б.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье затрагивается понятие «жизненные стратегии», широко используемое в различных научных дисциплинах, но лишенное единого определения. Авторы статьи предпринимают попытку систематизации основных теоретических подходов к изучению данного феномена, представленных в российской и зарубежной науке. Во многом исследования указанной направленности опираются на концепт «life course studies» («жизненный путь»). Зарубежные авторы в качестве основной теоретической рамки используют динамическую концепцию индивидуального поведения и принятия решений. Российские исследователи в разработке проблематики жизненного стратегирования делают акцент на субъектно-деятельностное и системно-институциональное направления. В целом, имеющиеся в современной науке подходы к изучению жизненных стратегий весьма многообразны, их отдельные элементы могут быть использованы в различных комбинациях в зависимости от теоретических и практических исследовательских задач.
Жизненная стратегия, жизненный путь, способ организации жизни, субъект жизнедеятельности, социальная активность личности, самореализация, общественное развитие, социальная трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/149146393
IDR: 149146393 | УДК: 316.62 | DOI: 10.24158/tipor.2024.7.6
Текст научной статьи Основные теоретические подходы к исследованию жизненных стратегий в зарубежной и отечественной науке
исследований, направленных на познание и понимание жизненных процессов, воплощающихся не только через деятельность отдельных личностей, но и всего общества в целом. Следовательно, в данном контексте имеет место принцип дуальности в интерпретации концепта «жизненные стратегии». С одной стороны, на них воздействует общественная составляющая. С другой стороны, жизнь каждого конкретного человека, различных социальных групп влияет на воспроизводство социума. Исходя из этого, мы попытаемся в какой-то мере систематизировать имеющиеся в зарубежной и отечественной науке подходы к исследованию жизненных стратегий.
В западной науке большая часть исследований, связанных с проблематикой жизненного стра-тегирования, опирается на концепт «life course studies». Эта парадигма возникла в результате сближения теоретических и эмпирических направлений исследований, связывающих социальные изменения, трансформацию социальной структуры и индивидуального поведения.
Так, дефиниция «жизненный путь» начала активно разрабатываться в психологии и социологии в 1960–1970-е гг. Психологи, в частности, П. Балтес и К. Шайе, основное внимание уделяли когнитивным, мотивационным и волевым проявлениям (Schaie, 1965; Baltes, 1968). Социологи, среди которых следует отметить Дж. Клаузена и Г. Элдера, в основном занимались изучением внешних факторов, выходящих за рамки межличностных отношений, но при этом регулирующих задачи и перспективы жизненного развития (Clausen, 1972; Elder, 1975). Также акцент был сделан на том, как социальное неравенство, связанное с расовой, классовой, гендерной принадлежностью и другими аспектами, оказывает влияние на социальную жизнь.
В 1990-е гг. исследования жизненных стратегий были продолжены в более широком контексте, подразумевающем, что жизненная стратегия отражает жизненный путь человека на основе определенного образа жизни, стиля поведения. Так, Г. Элдером и А. О’Рэндом в соавторской работе «Жизнь взрослых в трансформирующемся обществе» (1995) отмечается, что жизненная стратегия – это траектория жизни человека, которая характеризуется последовательной сменой событий и социальными переходами. В качестве примера можно привести переход от детства к юности и молодости, далее к зрелости и старости (Elder, O’Rand, 1995).
Сильной стороной предлагаемого определения является то, что оно достаточно емкое, чтобы охватить широкий спектр интерпретаций. В то же время можно выделить и недостатки. Во-первых, такая трактовка не учитывает взаимозависимости между социальным временем, социальным пространством и его уровнями. Также недооценивается роль самой личности как социального актора.
Позже данное определение было конкретизировано Г. Элдером и Дж. Гиле в монографии «Исследование жизненных стратегий: количественный и качественный подходы» (1998): жизненная стратегия – последовательность определенных социальных событий и ролей, которые человек разыгрывает с течением времени. В данном ключе наглядной иллюстрацией может служить переход от преимущественно игровой к учебной деятельности и далее к профессиональной занятости; от статуса члена родительской семьи к созданию собственной семьи и т. п. (Giele, Elder, 1998).
Мы разделяем данную точку зрения и считаем целесообразным учитывать определяющую роль поведения человека в формировании его жизненной стратегии. Люди воспринимают свое окружение, оценивают собственные ресурсы и способности и заботятся о своем благополучии, следуя тому, что, по их мнению, является наиболее значимым для того, чтобы действовать именно так, а не иначе. Жизненный опыт, социальное поведение и поступки являются не только результатом сознательно принятых решений, но также итогом рутинного или спонтанного поведения в ответ на внешние события.
Таким образом, жизненную стратегию можно определить как многогранный процесс, репрезентирующий социальное поведение, отправной точкой которого являются действия и опыт людей, изменяющие их биографические состояния.
В дальнейшем, в 2000–2010-е гг., жизненные стратегии стали изучаться через призму поведенческой теории, суть которой состоит в том, что социальные субъекты (отдельные личности, группы и т. п.) пытаются улучшить или, по крайней мере, сохранить аспекты своего физического и психического благополучия с течением времени, избегая при этом других значительных потерь. Эти усилия часто происходят спонтанно и не всегда осознаются, но тем не менее их следует понимать как часть поведенческого процесса, в котором социальные акторы потенциально способны делать выбор, связанный с действиями, которые они совершают на протяжении всей своей жизни (Baumeister, Bargh, 2014).
Также следует обратить внимание на субъектно-деятельностный подход. Общее понимание его принципов, данное Г. Элдером и соавторами, сводится к тому, что «человек сам строит свой жизненный путь через выбор и действия, которые он предпринимает в рамках имеющихся возможностей, ограничений и социальных обстоятельств» (Elder, Johnson, Crosnoe, 2003). К. Эванс называет это «ограниченным выбором», другими словами, действия индивида или социальной группы не могут быть безграничными, они ситуативны, привязаны к объективно существующим месту и времени, оцениваются и совершаются с учетом прошлого опыта и ожидаемого будущего (Evans, 2007).
По мнению С. Хитлина и Г. Элдера, в зависимости от временного горизонта действий и характера выбора, который необходимо сделать, можно выделить перспективные жизненные стратегии, направленные в будущее; идентификационные жизненные стратегии, связанные с настоящим; прагматические жизненные стратегии, характеризующиеся ситуативностью; экзистенциальные жизненные стратегии, представляющие собой универсальные возможности выбора (Hitlin, Elder, 2007).
Затем этот тезис был дополнен следующим образом: свобода действий должна иметь значение для будущих устремлений людей. Это касается как их способности влиять на будущее, так и их предполагаемых жизненных шансов. То есть люди должны «знать», что им делать дальше в жизни, учитывая, что существует большая или меньшая неопределенность относительно последствий их конкретных действий и событий в будущем (Hitlin, Johnson, 2015).
Рассмотренные выше подходы к исследованию жизненных стратегий наиболее полно были обобщены Л. Бернарди и соавторами, которые обозначили следующие уровни анализа жизненных стратегий: внутрииндивидуальный (микроуровень), индивидуальный (мезоуровень) и надиндивидуальный (макроуровень) (Bernardi, Huinink, Settersten, 2019).
Анализ жизненных стратегий на микроуровне опирается на аскриптивные свойства индивида, к которым могут быть отнесены генетические, биологические, физиологические, психологические и прочие характеристики. На этой основе могут формироваться ценностные ориентации, отношение к окружающему внешнему миру, оценки субъективного благополучия. В целом, их можно идентифицировать как некие резервы, потенциально определяющие проявления личности в различных сферах жизнедеятельности (семейной, профессиональной, досуговой и др.).
Анализ на мезоуровне репрезентирует наличие таких внешних факторов, которые показывают очевидные результаты, связанные с реализацией жизненных стратегий. Так, на достижение тех или иных жизненных стратегий могут оказывать влияние уровень образования человека, бытовые условия, а также различные преимущества, которые может давать брачный статус или его отсутствие, религиозная принадлежность и т. п.
Макроуровень анализа жизненных стратегий включает социокультурную составляющую, т. е. внешние условия, воздействующие на целевые установки и способы их достижения. К внешним условиям, определяющим персональные жизненные стратегии, можно отнести личное окружение, социальные сети и организации. Также сюда стоит включить и более масштабные институциональные образования, например, правовые, экономические и политические структуры. Этот надличностный контекст формирует внешний фон для воплощения жизненных стратегий.
Таким образом, наиболее обобщенный подход к изучению жизненных стратегий в зарубежных научных исследованиях теоретической направленности опирается на динамическую концепцию индивидуального поведения и принятия решений.
Примерно в то же время (1960–1970-е гг.) проблематика жизненного стратегирования активно стала разрабатываться и в отечественной науке. В основу российских (тогда советских) научных изысканий также был положен субъектно-деятельностный подход. И здесь следует остановиться на идеях К.А. Абульхановой-Славской. В своих работах она опирается на концепт личности как субъекта жизненного пути, т. е. имеют место определенные параллели с западными исследованиями «life course studies» (Абульханова-Славская, 1991).
Главное, на чем сосредоточено внимание данного автора, – люди имеют различные способности в отношении контроля и организации собственной социальной жизни, своеобразно реагируют на внешние обстоятельства, соответственно, у них по-разному проявляется личностное свойство быть актором своей жизни, управлять своим жизненным курсом. Указанное свойство личности можно выразить через дефиницию «ответственность». Если человек обладает этим качеством, то он способен осознанно относиться к жизни, планировать свою деятельность и предвидеть последствия своих действий. Это и будет определять его как субъекта деятельности.
Таким образом, по мнению К.А. Абульхановой-Славской, жизненный путь включает в себя следующие структурные элементы:
-
– жизненную позицию, в том числе совокупность жизненных отношений личности, а также способ их реализации;
-
– жизненную линию как реализацию жизненной позиции во времени и обстоятельствах жизни;
-
– концепцию (смысл) жизни как тезаурусный вариант интеграции жизненного целеполагания (Абульханова-Славская, 1991: 39).
Все эти элементы пронизаны единой связью через активность личности, именно личностная активность является основой формирования и реализации жизненной стратегии (Абульха-нова-Славская, 1991: 42–43).
Мы разделяем данную точку зрения касательно того, что жизненная стратегия – это одна из фундаментальных основ социальной жизнедеятельности человека. Другими словами, жизненная стратегия выстраивается с опорой на важнейшие потребности личности: формировать свое окружение и влиять на внешние социальные условия в соответствии со своим тезаурусом (ценностной системой); гармонично сочетать свои индивидуальные особенности со спецификой доминирующих социальных условий; стремиться к соответствию между образом жизни и личностными чертами.
Каждый человек следует своей персональной жизненной траектории, которая может быть определена как прогрессивная или регрессивная; более углубленная или более поверхностная; как чрезмерно индивидуализированная, выделяющаяся на общем фоне или, наоборот, вполне типичная, характерная для большинства.
Однако, несмотря на разнообразие траекторий личностного роста, К.А. Абульханова-Слав-ская обращает внимание на общую проблему, связанную с противоречием между индивидуальными возможностями и ожиданиями со стороны социума (Абульханова-Славская, 1991: 72). (Не)со-ответствие внутреннего и внешнего в итоге определяет то, как человек строит свою жизнь и идентифицирует свою личность (Абульханова-Славская, 1991: 24). Таким образом, адаптируясь к внешним условиям, индивид формирует и реализует свою жизненную стратегию.
Дальнейшее изучение жизненных стратегий в российской науке наиболее полно представлено в исследованиях Ю.М. Резника и Е.А. Смирнова (2002). Данные авторы интерпретируют концепт «жизненные стратегии» через призму системно-институционального подхода. Основное внимание уделено процессу формирования, реализации, трансформации жизненных стратегий, а также их наиболее типичным паттернам и вариантам проявления.
В рамках подхода, предложенного данной исследовательской научной группой, жизненная стратегия содержательно включает в себя следующие измерения.
Во-первых, личностное измерение, куда включаются социально обусловленные аспекты сознания человека, определяющие вектор его стратегического выбора: потребности, смыслы, цели, мотивы, желания, возможности и т. д.
Во-вторых, культурное измерение, выражающееся через объективно-идеальное содержание жизненных стратегий, которое формируется в процессе социализации и обуславливает стратегический выбор некими идеальными моделями - так называемая ценностно-нормативная система.
В-третьих, социально-организационное измерение, подразумевающее процесс согласования взаимных представлений и ожиданий действующих субъектов, что помогает найти адекватный статусно-ролевой баланс в межличностных отношениях при достижении стратегических целей, т. е. это взаимно согласованные статусы и роли, формы социального взаимодействия в соответствии с ними.
На этой основе М.Г. Солнышкина выделяет ряд критериев для типологизации жизненных стратегий:
-
- динамичность: жизненные стратегии подвержены изменениям в течение жизни человека;
-
- перспективность: существует временной горизонт, на который человек планирует свое будущее, а значит, можно выделить кратко- (на период менее одного года), средне- (на период от одного года до пяти лет) и долгосрочные (на период более пяти лет) жизненные стратегии;
-
- достижимость: способность человека реально оценивать свои возможности, имеющиеся в наличии ресурсы, которые действительно помогут добиться поставленных целей;
-
- сочетаемость: события жизни должны быть согласованы и связаны между собой;
-
- детализация: человек выделяет ближайшую и отдаленную перспективу своей жизни и сообразно этому выстраивает свою жизненную стратегию (Солнышкина, 2003: 68-69).
В российской науке имеются также и другие подходы к классификации жизненных стратегий. В частности, Ш.И. Алиевым и Г.А. Ельниковой жизненные стратегии дифференцируются в зависимости от направленности системы личностного проектирования своей жизни. Указанные авторы выделяют:
-
• инновационные жизненные стратегии - здесь имеет место направленность на достижение каких-либо новых результатов;
-
• традиционные жизненные стратегии - когда доминирует направленность/соответствие тем представлениям о будущем, которые транслирует ближайшее социальное окружение;
-
• адаптационные жизненные стратегии - в данном случае присутствует ориентация на приспособление к постоянно изменяющимся социальным условиям (Алиев, Ельникова, 2011).
Таким образом, авторы рассматривают жизненные стратегии как сложнейший многоаспектный феномен, закономерно предлагая комплексный подход к его исследованию с учетом различных (идеальных, реальных, психических, социальных, культурных, поведенческих и др.) сторон стратегической деятельности личности.
Далее рассмотрим подход к анализу жизненных стратегий, представленный исследователями уральской социологической школы под руководством Г.Е. Зборовского. Здесь основной акцент сделан не на личностно ориентированном, а на общностном подходе. В качестве основного субъекта реализации жизненной стратегии рассматривается не личность, а многочисленные социальные общности, выделяемые по возрастным (например, молодежь, студенчество), социальнодемографическим (например, семья), профессиональным (например, государственные и муниципальные служащие) и другим критериям. Как отмечает Г.Е. Зборовский и соавторы, под жизненной стратегией социальной общности следует понимать ее главную линию поведения, которая объединяет в одно целое жизненные планы, связанные с достижением основных целей, и инструменты их реализации (Зборовский и др., 2014).
Представители уральской социологической школы подробно останавливаются на описании объективных факторов формирования и реализации жизненных стратегий социальных общностей. В качестве таковых ими выделяются: ценностные ориентации, коллективный опыт, место и роль в социальной структуре общества, наличие каких-либо ресурсов, определяющих размер и качество человеческого капитала, жизненные проблемы и цели, стоящие перед представителями данной общности (Зборовский и др., 2014). Таким образом, основными структурными элементами жизненной стратегии общности являются ее цели и способы их достижения.
В дополнение отметим, что важно учитывать центральную роль поведения человека в формировании его жизненной стратегии. Полагаем, что люди эффективно/неэффективно реагируют на собственный опыт в привычной для них социальной среде. Они воспринимают свое окружение, оценивают свои ресурсы и способности, заботятся о своем благополучии, следуя тому, что, по их мнению, является веским основанием для выбора определенного сценария действий. Говоря об опыте и поведении, еще раз подчеркнем тот факт, что формирование и реализация жизненной стратегии является не только итогом сознательно принятых решений, но и результатом привычного (обыденного) или спонтанного поведения в ответ на внешние события. Следовательно, жизненную стратегию можно определить как многогранный процесс, воплощающийся в индивидуальном и коллективном поведении. Другими словами, она формируется на основе устойчивого потока действий и опыта людей.
Как в зарубежных, так и в отечественных подходах к исследованию жизненных стратегий на первый план выдвигается агентность – активность индивидов и социальных общностей на пути построения жизненной стратегии. Подчеркивается значимость активного выбора на фронтире между степенью затрат на осуществление данного выбора и той выгодой, которую можно получить в плане дальнейшего развития. В любом случае жизненная стратегия – это активные осознанные действия или неосознанные действия на пути к определенным жизненным целям, не всегда четко выстроенным, но реализующимся в поведении индивида или социальной общности в качестве идеальной модели собственной жизни, отвечающей внутренним представлениям о самоценности, смысле жизни, успехе и других смысложизненных категориях. Жизненная стратегия базируется на ответственности, активности, целеполагании и других качествах и действиях индивидов/социальных общностей.
В целом, рассмотренные нами зарубежные и отечественные подходы, связанные с теоретическим осмыслением жизненных стратегий, больше ориентированы на концептуальные основания и общие закономерности. Наиболее перспективным нам представляется интегративный подход, сочетающий концептуальную глубину и эмпирическую детализацию.
Список литературы Основные теоретические подходы к исследованию жизненных стратегий в зарубежной и отечественной науке
- Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991. 299 с.
- Алиев Ш.И., Ельникова Г.А. Динамика системы личностного проектирования жизни // Вестник Дагестанского научного центра. 2011. № 40. С. 58–63.
- Резник Ю.М., Смирнов Е.А. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа). М., 2002. 260 с.
- Солнышкина М.Г. Особенности конструктивистского консультирования в области профессионального самоопределения молодежи: ценностно-смысловой аспект // Отечественный журнал социальной работы. 2003. № 1 (11). С. 66–70.
- Управление стратегиями поведения городских общностей: проблемы и возможности: монография / Г.Е. Зборовский [и др.]. Екатеринбург, 2014. 200 с.
- Baltes P.B. Longitudinal and cross-sectional sequences in the study of age and generation effects // Human Development. 1968. Vol. 11, no. 3. P. 145–171. https://doi.org/10.1159/000270604.
- Baumeister R.F., Bargh J.A. Conscious and unconscious. Toward an integrative understanding of human mental life and action // Dual-process theories of the social mind / ed. by J.W. Sherman, B. Gawronski, Y. Trope. NY, 2014. P. 35–49.
- Bernardi L., Huinink J., Settersten R.A. The life course cube: a tool for studying lives // Advances in Life Course Research. 2019. Vol. 41. Article 100258. https://doi.org/10.1016/j.alcr.2018.11.004.
- Clausen J.A. The life course of individuals // A sociology of age stratification / ed. by M.J. Riley, M. Johnson, A. Foner. NY, 1972. P. 457–514.
- Elder G.H. Age differentiation and the life course // Annual Review of Sociology. 1975. Vol. 1, no. 1. P. 165–190.
- Elder G.H., Johnson M.K., Crosnoe R. The emergence and development of life course theory // Handbook of the life course / ed. by J.T. Mortimer, M.J. Shanahan. NY, 2003. P. 3–19.
- Elder G.H., O’Rand A. Adult lives in a changing society // Sociological perspectives in social psychology / ed. by K.S. Cook, G.A. Fine, J.S. House. Boston, 1995. P. 452–475.
- Evans K. Concepts of bounded agency in education, work, and the personal lives of young adults // International Journal of Psychology. 2007. Vol. 42, no. 2. P. 85–93. https://doi.org/10.1080/00207590600991237.
- Giele J.Z., Elder G.H. Methods of life course research: qualitative and quantitative approaches. Cambridge, 1998. 344 p.
- Hitlin S., Elder G.H. Time, self, and the curiously abstract concept of agency // Sociological Theory. 2007. Vol. 25, no. 2. P. 170–191. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2007.00303.x.
- Hitlin S., Johnson M.K. Reconceptualizing agency within the life course: The power of looking ahead // American Journal of Sociology. 2015. Vol. 120, no. 5. P. 1429–1472. https://doi.org/10.1086/681216.
- Schaie K.W. A general model for the study of developmental problems // Psychological Bulletin. 1965. Vol. 64, no. 2. P. 92–107. https://doi.org/10.1037/h0022371.