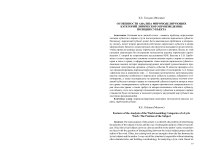Особенности анализа миромоделирующих категорий лирического произведения: позиция субъекта
Автор: Гильяно Карина Евгеньевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Основная цель данной статьи - выявить проблему определения позиции субъекта в лирике и пути последующего анализа лирического субъекта. Поскольку лирический субъект может быть максимально приближен к авторскому полюсу, встает вопрос различения собственно лирического субъекта и автора произведения. Зачастую существующих инструментов оказывается недостаточно, чтобы провести границу между лирическим субъектом и автором. Выход из этой ситуации невозможен без построения методологии анализа лирического произведения. С опорой на теоретические исследования М.М. Бахтина и С.Н. Бройтмана в статье определены основные отличия анализа героя в лирике от анализа героя в эпосе и драме, и сформулированы этапы анализа лирического субъекта с помощью анализа четырех миромоделирующих категорий художественного произведения: пространства, времени, субъекта, события. В качестве примера в статье проанализированы миромоделирующие категории стихотворения А.А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...». Благодаря полноценному категориальному анализу выявлены особенности лирического субъекта в рамках избранного стихотворения, а также подтверждены на практике принципиальные отличия отношений субъекта и автора в лирике от отношений субъекта (героя) и автора в эпосе или драме: незавершенность субъекта в лирике противостоит завершенности героя эпоса или драмы, а также требует от автора отношения к себе как к субъекту, а не объекту, из-за чего характер отношений между субъектом и автором в лирике становится более интимным и позволяет раскрыть внутренний мир субъекта как постоянно развивающийся.
Миромоделирующие категории, методология анализа, лирика, лирический субъект
Короткий адрес: https://sciup.org/149139970
IDR: 149139970
Текст научной статьи Особенности анализа миромоделирующих категорий лирического произведения: позиция субъекта
Проблема неоднозначности позиции субъекта в лирике неоднократно поднималась исследователями. Так, М.М. Бахтин в работе «Автор и герой в эстетической деятельности» уделил особое внимание слиянности, совпадению автора и героя в лирическом произведении, тогда как «эстетическое событие может свершиться лишь при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания» [Бахтин 2003, 102-103]. Из-за подобного синкретичного характера их позиций М.М. Бахтин видел определенные ограничения и в диалогических возможностях лирики. С.Н. Бройтман развил мысль М.М. Бахтина, обратив внимание, что, хотя «я» в лирике не может быть жестко отделено от «другого», граница между ними - «исторически меняющаяся величина» [Бройтман 1997, 21] и глубоко связана с концепцией лирического образа. Опираясь на достижения исторической поэтики, С.Н. Бройтман показал, что лирика предполагает уход от субъект-объект-ных отношений между автором и героем к межсубъектным, и предложил типологию, основным принципом которой стало определение близости субъектной формы к автору произведения или герою. Частично опираясь на классификацию Б.О. Кормана в работе «О целостности литературного произведения» [Корман 1992], Бройтман выделил автора-повествователя и собственно автора как позиции, тяготеющие к полюсу «автора», и позиции лирического я, лирического героя и героя ролевой лирики как позиции, тяготеющие к полюсу «героя» [Бройтман 1999].
Однако, если с субъектными формами, приближающимися к геройно-му плану, почти всегда можно четко выявить два сознания и две ценностные позиции - героя и автора, - то в субъектных формах, приближающихся к авторскому полюсу, отделить лирического субъекта от автора-творца практически невозможно. И в этом случае встает вопрос об инструментах, с помощью которых было бы возможно провести границу между лирическим субъектом и автором-творцом, не редуцируя при этом позицию одного из них до выраженной определенным образом пространственной точки зрения и не пытаясь низвести лирического субъекта в момент анализа до статуса объекта, поскольку его сознание так или иначе является изображаемым.
Но если в эпосе и драме изображаемое сознание героя оказывается принципиально завершенным, конечным, как характер (а значит и познаваемым как объект), то в лирике субъект не имеет, пользуясь терминологией М.М. Бахтина, пространственной завершенности. Лирический субъект, как характер, остается принципиально незавершенным, неконечным - лирика не дает нам представления о характере субъекта, не дает возможности ответить на вопрос, «какой он», поскольку лирический субъект постоянно развивается как внутри одного стихотворения, так и в рамках цикла или книги. Завершенным оказывается лишь его переживание какого-то события (или событий): и событие в этом случае изображаемо и познаваемо как объект, лирический же субъект - нет. И здесь проблема познаваемости субъекта важна не только с точки зрения понимания его природы, но и в связи с анализом разных уровней структуры художественного произведения, изучение которых поможет нам выработать тот самый инструмент, необходимый для разграничений позиций автора и лирического субъекта.
В работе «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» [Бахтин 1986] М.М. Бахтин выделил три уровня художественного произведения: гносеологический, этический и эстетический.
Гносеологический уровень - это понятия, которыми оперирует автор, и благодаря которым он выстраивает произведение как модель мира. Все на этом уровне - объект, который можно исследовать, и, если говорить об эпосе и драме, герой на данном уровне произведения тоже является объектом. Все понятия на гносеологическом уровне организуются в четыре миромоделирующие категории, которые могут быть восприняты субъектом и зависят от него: пространство, время, субъект, событие [Гильяно 2020].
Этический уровень - это уровень оценки понятия (по сути, тех самых миромоделирующих категорий), уровень, выражающий систему ценностей субъекта. Этический уровень всегда предполагает наличие как минимум двух субъектов (двух несовпадающих сознаний): автора и героя. В эпосе и драме место героя, как правило, занимает действующий субъект, который выражает себя в художественном мире через поступок (деятельное отношение к миромоделирующим категориям произведения), место автора - созерцающий субъект, выражающий себя через оценку поступка действующего субъекта.
Эстетический же уровень - это всегда событие, рождающееся из разницы, несовпадения оценки миромоделирующих категорий действующим и созерцающим субъектами. Но в лирике (и это напрямую повлияет на характер анализа лирических произведений) сам субъект проявляет себя иначе.
Лирический субъект не проявляется на гносеологическом уровне ли- рического произведения, только на этическом, поэтому, в отличие от эпоса, лирический субъект как бы находится в равной позиции с автором. Как писал Бройтман, автор и лирический субъект находятся в субъект-субъект-ных отношениях, и, следовательно, главное отличие лирического субъекта от героя эпоса или драмы в том, что последний - завершен и постижим, тогда как лирический субъект находится в постоянном развитии. Чтобы завершить его, автору потребовалось бы сместить фокус произведения с внутренней жизни героя, с его раскрытого, как книга, сознания на его поступок, потому как именно в момент совершения поступка внутренняя жизнь фактически прекращает свое существование, и вся становится устремлена во вне, она входит в художественный мир произведения в качестве поступка. Таким образом, совершенный поступок становится объектом, который познается и оценивается и через призму которого познается и оценивается тот, кто его совершил, т.е. герой. В лирике же герой не совершает поступка, центральным событием лирики является само восприятие, не действие. «В лирике мир воспринимается с точки зрения субъекта, ценность объективного мира рассматривается лишь как нечто, пропущенное сквозь сознание субъекта, приобретшее субъективную оценку» [Эткинд 1977, 38]. Для лирики не требуется разрешения внутренней жизни во вне - ее цель другая: зафиксировать акт внутренней жизни и эстетически оформить его, не исследовать, не познавать и даже не оценивать, а только оформить, позволив другому обрести свой собственный голос.
Таким образом, если в эпосе и драме всегда можно выделить два типа субъекта: действующего и созерцающего, и проанализировать героя через его поступок и оценку этого поступка, то в лирике вместо действующего субъекта появляется еще один созерцающий субъект, а место поступка или события занимает сам акт созерцания, через который выражается присутствие субъекта в мире. Следовательно, и эстетическое событие в лирике рождается не из отношения автора к герою и его поступку, а из его отношения к присутствию субъекта и характеру этого присутствия. Опираясь на вышесказанное, можно выделить основные этапы анализа лирического произведения.
На первом этапе необходимо обратиться к гносеологическому уровню произведения и проанализировать круг понятий, связанных с миромоделирующими категориями художественного произведения, уделив особое внимание событию, через которое выражается присутствие субъекта в художественном мире, и пространственному и временному выражению лирического субъекта, которое позволит очертить границы его «я».
На втором этапе необходимо выявить два типа оценки события: оценку со стороны лирического субъекта (как лирический субъект переживает свое присутствие в мире) и авторское оформление этой оценки (как автор относится к присутствию субъекта в мире). Далее, через анализ этих двух позиций мы выйдем к эстетическому содержанию произведения.
Чтобы показать на примере, как будет выстраиваться полноценный анализ миромоделирующих категорий на разных уровнях лирического произведения, обратимся к стихотворению А.А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...».
В первой строфе стихотворения читателю предлагается образ девушки, поющей в церковном хоре. Лишенный четкой пространственной локализации (на лексическом уровне она как будто бы намеренно размывается - «в чужом краю» [Блок 1997, 63], «ушедших в море» [Блок 1997, 63] -и вытесняет читателя из косвенно обозначенного пространства церкви на более общий уровень), он при этом сочетает в себе сразу два события: одно из них дано как факт, происходящий здесь и сейчас (факт пения девушки), другое только умозрительно - неизвестные корабли ушли в море и отправились в чужой край. В следующей строфе первое событие только уплотняется: уточняется его пространственная локализация (обрисовывается пространство церкви - у нее появляется купол, на плечо девушки падает луч света, мы узнаем цвет ее платья), и, по обнаружившемуся фокусу, появляется возможность определить позицию говорящего - первые две строфы есть не что иное, как взгляд посетителя церкви, его внутреннее переживание, эстетически оформленное автором. Здесь лирический субъект принципиально отличим от автора, хотя на уровне языка он по-прежнему остается невыраженным и мог бы быть принят за ролевого героя лирики.
Но в третьей же строфе ситуация меняется. Если первая строка пространственно еще цепляется за предыдущие («И всем казалось, что радость будет» [Блок 1997, 64], - всем, сидящим в церкви и слушающим пение девушки, как и герой), то последующие вновь вытесняют читателя из пространства церкви в событие с кораблями, в ментальный образ, который неожиданно охватывает всех, кто присутствует при первом событии. И, с точки зрения пространственной локализации, это - определенно фокус автора-повествователя.
В четвертой строфе этот фокус получает закрепление: пространство церкви охватывается не снизу, не с позиции человека внутри, т.е. героя (уже нет голоса, летящего в купол), а с позиции сверху, т.е. автора-повествователя. А далее взгляд автора-повествователя свободно перемещается в этом пространстве и выцепляет новое, нужное ему событие - плач ребенка - сюжетно завершающее первые два.
Итак, обобщим: лирический субъект стихотворения находится внутри первого события (события пения), и, если бы он тяготел к полюсу героя, то его выход во второе событие мог быть только умозрительным. Для него корабли были бы всего лишь образом, о котором можно помыслить, но который нельзя узнать как факт и который нельзя принципиально завершить (а именно это происходит в конце стихотворения). Размытие пространственной локализации, завершение события, находящегося вне пространственного фокуса предполагаемого героя - именно это черты автора-повествователя в лирике.
Однако пока это разделение на лирического субъекта и автора повествователя является чисто техническим, поскольку нами еще не были выявлены ценностные позиции двух субъектов. Чтобы приблизиться к этому моменту, мы должны оговорить еще одно событие - само событие «присутствия» лирического субъекта, событие «созерцания-понимания» [Гиршман 2007, 466], которое как мост соединяет обоих субъектов стихотворения. Ведь очерчивая границы сознания лирического субъекта, эстетически оформляя и завершая его (в том числе ритмизуя, определяя его композицию и язык), принципиально вненаходимый по отношению к тексту произведения его автор проводит черту между лирическим субъектом и взглядом, обращенным на него, как на другого. И «даже в самой интимной автобиографической лирике автор - не тот, кто говорит, а тот, кто этого говорящего слышит, понимает, оценивает как “другого”» [Тюпа 2009, 26].
Поскольку на гносеологическом уровне субъект оказывается незавершенным, мы не можем говорить о его отношении к самому себе - только о его отношении к пережитому им событию. Таких событий в произведении два: событие пения и событие, связанное с ушедшими в чужой край кораблями. В начале стихотворения эти события дополняют друг друга смыслово (второе событие невозможно без первого) и создают единый эмоциональный фон: если строка «Девушка пела в церковном хоре» [Блок 1997, 63] достаточно нейтральная, то последующие строки первой строфы настраивают на элегический и даже драматический лад («усталых», «в чужом краю», «ушедших», «забывших радость» [Блок 1997, 63]). Однако уже во второй строфе первое событие начинает конфликтовать с настроением второго: через пространственные и цветовые характеристики подчеркивается некоторая торжественность пения девушки, белый цвет, который присутствует во всем, что связано с ее обликом («луч сиял», «на белом плече», «белое платье» [Блок 1997, 64]), наделяет фигуру девушки символическим значением, особенно через ее противопоставление мраку, в котором находятся так и неназванные «все». Далее, в третьей строфе настроение первого события, события пения, полностью перекрывает настроение второго события («радость будет», «светлую жизнь себе обрели» [Блок 1997, 64]), и только в четвертой строфе новое событие - плач ребенка - полностью разрушает настроение, созданное событием пения. Сначала осторожно, переводя фокус с образа девушки и света ее образа в пространстве церкви на окружающий мрак и неизвестность: «голос был сладок» (образ девушки исчезает, и от нее остается только голос), «луч был тонок» (тонкий луч света все же теряется во мраке); а затем достаточно резко уводя в пространство вне церкви («высоко, у царских врат») и впервые вводя в стихотворение новый звук, отличный от пения («плакал ребенок» [Блок 1997, 64]).
Итак, воспринимаемый образ в пространстве церкви имеет в глазах лирического субъекта светлые черты, он вселяет надежду, которая способна затмить мысль о чужих страданиях. Но этот свет относится скорее к миру физическому, материальному, нежели духовному. Лирический субъект обращает внимание в первую очередь на вещный мир (платье, купол, луч, плечо), который относится к категории пространства, и эстетизирует его, а не тему, которой посвящено пение девушки. Как замечает И.А. Спиридонова, «Блок во второй строфе создает эффект чарующего пения: молитва, где главное слово, обращенное к Богу, превращается в вокал, где главное - красота звучания» [Спиридонова 2013, 284]. Через это мнимое достижение гармонии в рамках физического мира, которое конфликтует с плачем ребенка в последней строфе, обнажается и конфликт материального и духовного мира: именно мир, тяготеющий к утешительной красоте земного, нежели к божественному откровению, оплакивает ребенок.
Подобное же противопоставление прочитывается и в связи с включением мотива «кораблей», в разных стихотворениях А. Блока связанного с «реализацией высокой идеи» [Минц 2000, 174]. В данном контексте этот мотив раскрывает тему недостижимости идеала не только из-за двойной дистанцированности самих кораблей от лирического субъекта (они всего лишь тема пения и они ушли в чужой край), но и потому, что они подаются через образ поющей девушки, наделенной чертами Прекрасной дамы. Ее образ в стихотворении, с одной стороны, выражающий мотив «апелляции к идеалу Вечной Женственности, надежды на преодоление духовной опустошенности» [Магомедова 1997, 142], «романтическую метафору гармонии» [Максимов 1975, 52], а с другой, воспринимаемый лирическим субъектом именно как часть вещного, а не вечного мира, как было оговорено выше, также демонстрирует этот разрыв, конфликт между материальным и духовным.
Как мы видим, данный конфликт подчеркивается не только через категорию субъекта и пространственные характеристики, но и через образность и форму самого стихотворения, в которой оказывается закреплена авторская оценка.
И.А. Спиридонова обращает внимание на то, что церковным источником данного стихотворения является всеобщая хоровая молитва «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих», однако эта молитвенная тема раскрывается в стихотворной форме стансов, предполагающей строгую смысловую и композиционную завершенность каждой строфы. Не только образность, но и выверенная поэтическая форма выводят на первый план эстетическое, а не этическое восприятие события лирическим субъектом. Через нее автор оценивает лирического субъекта как сознание, закрытое для разговора с Богом, потому как даже в ситуации, располагающей к нему, субъект выбирает чисто эстетическое созерцание. И для Блока эта неспособности лирического субъекта прийти к божественному откровению трагична: именно поэтому образы, возвышенные во второй строфе, вдруг низводятся, а высоко поднятым, до «царских врат» [Блок 1997, 64] оказывается дисгармоничный образ плачущего ребенка.
Таким образом, через анализ миромоделирующих категорий художественного произведения мы вышли к глубокому анализу лирического субъекта, который, несмотря на свою близость к авторскому полюсу, не совпадает с автором и его позицией. Именно через этот анализ оказалось возможным отделить лирического субъекта от автора, определить его черты и границы внутреннего мира, а, значит, сделать большой шаг по направлению к анализу эстетического содержания стихотворения. На примере анализа миромоделирующих категорий стихотворения А.А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...» мы увидели не только особенности лирического субъекта в данном стихотворении, но и принципиальное отличие отношений субъекта и автора в лирике от отношений субъекта (героя) и автора в эпосе или драме: именно незавершенность субъекта в лирике противостоит завершенности героя эпоса или драмы, а также требует от автора отношения к себе как к субъекту, а не объекту, из-за чего характер отношений между субъектом и автором в лирике становится более интимным и позволяет раскрыть внутренний мир субъекта как постоянно развивающийся.
Анализ миромоделирующих категорий, проведенный на гносеологическом, этическом и эстетическом уровнях, позволил провести полноценный и точный анализ стихотворения, не обращаясь к внетекстовой реальности, выявить чисто эстетический компонент художественного произведения и разделить позиции лирического субъекта и автора в одном из самых сложных для анализа лирики случаев: близости лирического субъекта к авторскому полюсу. Опирающийся на универсальные категории, существующие в любом художественном произведении, и основные теоретические положения эстетики словесного творчества, этот метод может быть использован для анализа любых лирических произведений, в том числе и тех, которые мало или совсем не исследованы на сегодняшний день.
Список литературы Особенности анализа миромоделирующих категорий лирического произведения: позиция субъекта
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, Русские словари, 2003. С. 69-263.
- Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 1986. С. 26-89.
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 2. М.: Наука, 1997. С. 63-64.
- Бройтман С.Н. Лирический субъект // Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / под ред. Л.В. Чернец. М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 1999. С. 95-103.
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX - начала XX века в свете исторической поэтики (субъектно-образная структура). М.: РГГУ, 1997. 307 с.
- Гильяно К.Е. Анализ миромоделирующих категорий художественного произведения // Филологические науки. 2020. № 3. С. 115-121.
- Гиршман М.М. М.М. Бахтин о литературном произведении как «едином, но сложном событии» и перспективы изучения художественной целостности // Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. М.: Языки славянской культуры, 2007. С. 463-467.
- Корман Б.О. О целостности литературного произведения // Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск: Издательство Удмуртского университета, 1992. С. 119-128.
- Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М.: «Мартин», 1997. 224 с.
- Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л.: Советский писатель, 1975. 526 с.
- Минц З.Г. Блок и русский символизм. Избранные труды в трех книгах: Кн. 2. СПб.: Искусство, 2000. 784 с.
- Спиридонова И.А. Молитва в лирике А. Блока («Девушка пела в церковном хоре...») // Проблемы исторической поэтики. 2013. Вып. 11. С. 280-296.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 336 с.
- Эткинд Е.Г. О лирическом субъекте поэзии романтизма // Эткинд Е.Г. Форма как содержание: Избранные статьи. Würzburg: jal-Verlag, 1977. С. 38-51.