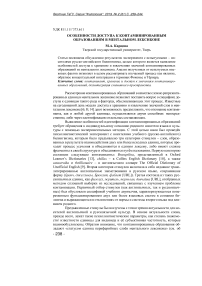Особенности доступа к контаминированным образованиям в ментальном лексиконе
Автор: Карцова Маргарита Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обсуждению результатов эксперимента с испытуемыми - носителями русско-английского билингвизма, целью которого является выявление особенностей доступа к хранению и извлечению значений контаминированных образований из ментального лексикона. Анализ полученных от испытуемых языковых фактов позволяет в целом рассматривать изучаемый процесс как явление, обратное концептуальной интеграции в терминах Фоконье и Тёрнера.
Контаминант, хранение и доступ к значениям контаминированных образований, дезинтеграция смешанного пространства
Короткий адрес: https://sciup.org/146281451
IDR: 146281451 | УДК: 811.111’373.611
Текст научной статьи Особенности доступа к контаминированным образованиям в ментальном лексиконе
Рассмотрение контаминированных образований в качестве сложно репрезентированных единиц в ментальном лексиконе позволяет поставить вопрос о специфике доступа к единицам такого рода и факторах, обусловливающих этот процесс. Известные на сегодняшний день модели доступа к хранению и извлечению значений слов в ментальном лексиконе [6; 8; 14] дают возможность предположить, что опознание контами-нанта, как и любой другой единицы, осуществляется двумя способами: непосредственно, либо через идентификацию отдельных составляющих.
Выявление особенностей идентификации контаминированных образований требует обращения к индивидуальному сознанию рядового носителя языка и культуры с помощью экспериментальных методик. С этой целью нами был проведён психолингвистический эксперимент с носителями учебного (русско-английского) билингвизма, которым было предъявлено три категории стимулов – слов, образованных в результате взаимодействия двух или более исходных единиц, которые проходят процесс усечения и объединяются в единую лексему, либо имеют схожие фрагменты в своей структуре и объединяются путём наложения. Первую категорию составили следующие контаминанты: Brangelina , представленный в Oxford Learner’s Dictionaries [13], chillax – в Collins English Dictionary [10], а также catastroika и thrillionaire – в англоязычном словаре The Official Dictionary of Unofficial English [9]. Вторая категория стимулов включала в себя недавние транслитерированные англоязычные заимствования в русском языке, сохранившие форму ( бранч, джеггинсы, Брексит, фаблет [URL]). Третья состояла из таких русскоязычных единиц, как филолух, жритель, пермьзан, дивчайна [URL], отобранных методом сплошной выборки из исследований, связанных с изучением проблемы контаминации. Первичный отбор стимулов (как англоязычных, так и русскоязычных) был обусловлен спецификой учебного двуязычия, характеризующегося попеременным функционированием двух или более языковых систем в сознании билингва и выражающегося в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного.
Предъявленные стимулы были изучены с точки зрения актуальности для носителей англоязычной и русскоязычной культур. В основе актуальности слова, прежде всего, лежат такие психолингвистические параметры, как степень знакомо-сти/ известности единицы для индивида и её субъективная частотность, которые взаимообусловлены. Обратим внимание, что контаминированные образования обладают «статусом единиц периферийных слоёв ментального лексикона» (см. об - 238 - этом: [1]), поэтому в частотных словарях они не зарегистрированы. В этой связи нами были использованы данные словаря The Official Dictionary of Unofficial English, в содержание которого входит не только значение контаминанта, но и частота встречаемости слова в разных контекстах с указанием даты, источника и автора публикации. Кроме того, частотность предъявленных в эксперименте стимулов определялась путём подсчёта количества обращений пользователей к поисковой системе Google при помощи платформы Google Trends [12]. Данное web-приложение на графике отображает динамику «популярности» запрашиваемых слов с течением времени. Так, в настоящем эксперименте контаминанты каждой категории стимулов расположены в порядке убывания частоты их использования соответственно.
В нашем исследовании были использованы методики свободного ассоциативного эксперимента и субъективного дефинирования, а также задания, направленные на выявление степени знакомости/ известности слов для Ии. и их осведомлённости об области их употребления. Интерес представлял процесс доступа к значениям слов-стимулов, предъявленных Ии. изолированно (вне вербального контекста).
В ходе эксперимента Ии. были разделены на две группы. Первой группе было дано задание записать ассоциации к словам-стимулам без ограничения на выбор языка и количество реакций, а второй было предложено объяснить значение каждого стимула. Кроме того, обе группы должны были пояснить, является тот или иной стимул знакомым словом (поставить «+») или нет (поставить «–») и указать, в каких областях он мог встречаться. В качестве Ии. выступили студенты 4 курса факультета иностранных языков и международной коммуникации Тверского государственного университета, изучающие английский язык в качестве специальности по направлению «Лингвистика», а также студенты 1 курса магистратуры того же направления. Общее число Ии., принявших участие в эксперименте, составило 30 человек, все они могут рассматриваться как искусственные билингвы, знакомые в той или иной степени с элементами англоязычной культуры. По гендерному принципу анализ не проводился. Всего по итогам всех заданий эксперимента от Ии. было получено 268 ответов (129 субъективных дефиниций, из них 16 отказов; 139 свободных ассоциаций, из них 18 отказов).
В результате количественного и качественного анализа было установлено, что основными реакциями на англоязычные стимулы Brangelina, chillax, catastroika и thrillionaire оказались переводные (32%) (например, Brangelina < союз Брэда Питта и Анджелины Джоли ) и псевдо-переводные реакции (53%) - реакции Ии., в которых даётся перевод слова при отсутствии знания исконного значения контами-нанта (например, thrillionaire < человек, который боится смотреть триллеры ). Преобладающее количество псевдо-переводных реакций свидетельствует, прежде всего, о «невключённости» предъявленных стимулов во внутренний контекст многих Ии. Пытаясь найти сходство между незнакомым и уже знакомым словом, обращаясь при этом к различным типам знания, Ии. прибегали к использованию различных опор (ключей), которые находились в слове и могли быть опознаны индивидами. Одной из обнаруженных нами закономерностей можно считать то, что при восприятии малознакомых или незнакомых слов увеличивалась опора на элементы слова и уменьшалось его восприятие как целостного образования.
Так, при идентификации субъективно низкочастотных стимулов важной для Ии. оказалась опора на внешнюю форму слова, а именно выделяемые в контаминированном образовании фрагменты (например, chillax < что-то холодное ), а также опора на возникающее ощущение сходства с другими единицами языка (например,
Brangelina < балерина ). Всё же несколько Ии. (8), имеющих хорошую лингвистическую подготовку и обладающих достаточными фоновыми знаниями, попытались подвергнуть данные контаминированные образования поэлементному анализу, восстановив слова-источники на английском и/ или русском языке (например, catastroika < catastrophy + perestroika ). В 5 реакциях из 84 (6%), тем не менее, граница «расчленения» контаминированного образования проходила по ложному шву, обнаружив источники, которые уводили Ии. от «правильного» опознания значения контаминанта. Среди таких реакций Ии. внимания заслуживают следующие: свободная ассоциация на стимул catastroika - лошади , мотивированная конечным элементом -troika (рус. тройка ), и стройка котов , являющаяся результатом поочерёдного доступа сначала к начальному компоненту стимула - cata- , а потом конечному -stroika. Выделенный Ии. фрагмент -troika , переосмысленный как «упряжка в три лошади», был явно обусловлен культурной принадлежностью Ии., его знанием реалий родной культуры, в то время как вторая реакция отражает способности Ии. к языковой игре.
В процессе доступа к контаминированному образованию Ии. часто склонны расчленять его на некие составляющие (в терминологии Д. Эйчинсон «chunks» [7: 107]), соотнося их со знакомыми элементами родного и/или изучаемого (изучаемых) языка (языков). Другими словами, Ии. осуществляют опору на «чанки» таким же образом, как это было показано в исследовании И.В. Новиковой, выполненном на материале полиморфемных слов [4: 9–10]. При этом следует сказать, что «разрыв связи» составляющих контаминанта осуществляется Ии. не по «морфемному шву», который сигнализирует о соединении разных слов в контаминированное образование с точки зрения системно-структурного подхода.
Интерпретация слов-стимулов путём перевода на язык оригинала была осуществлена Ии. и в отношении транслитерированных англоязычных заимствований в русском языке, сохранивших форму ( бранч, джеггинсы, Брексит, фаблет ). В общей сложности было получено лишь 32,4% «верных» переводных реакций, раскрывающих первоначальный замысел контаминантов. Наиболее трудными для идентификации оказались стимулы Брексит и фаблет , где из-за недостатка фоновых знаний доступ к значениям контаминантов осуществлялся с опорой на звукобуквенный комплекс. Среди полученных псевдо-переводных реакций считаем всё же необходимым выделить две ассоциации Ии. на русском языке на стимул Брексит : место для отдыха в офисе и место для отдыха , ставшими продуктом вторичной концептуальной интеграции в терминах G. Fauconnier и М. Turner [11]. При «распаковывании» данного контаминанта Ии. обнаружили два слова-источника, показавшиеся созвучными стимулу: break (в значении ‘перерыве’ ) и seat (в значении ‘место’ ). В процессе когнитивной операции в сознании Ии. произошло слияние ментальных пространств перерыв и место , которые впоследствии сформировали новое промежуточное (родовое) пространство отдых. Это даёт основание полагать, что идентификация контаминированного образования предполагает множественность интегрирования и представляет собой творческий процесс распознавания образов. Как отмечается в работе [2], «продукт сращивания может быть входным для следующей операции сращивания, что открывает удивительные возможности для концептуальной креативности».
Идентификация стимулов бранч и джеггвлнсы не вызвала затруднений (было получено всего 2 отказа). Эти слова были знакомы Ии., так как встречались в текстах учебных курсов и СМИ, что было указано в анкетах.
Доступ к значениям русскоязычных стимулов жритель, дивчайна, филолух, пермьзан был обусловлен внешней формой слова и субъективной частотностью для Ии. В большинстве случаев идентификация этой категории стимулов осуществлялась с опорой на возникающее у Ии. ощущение сходства с другими словами родного языка (например, пермьзан < пармезан ) (83,5%), а также с опорой на эмоциональнооценочные переживания (например, жритель < ироничное обозначение зрителя, который мешает остальным своим жеванием (от слова «жрать» ) (9,3%). В некоторых случаях идентификация слов-стимулов могла привести к актуализации фоновых знаний (в двух бланках ответов «распакованные» понятия Пермь и пармезан автоматически активировали в памяти Ии. связанные с ними ассоциации о санкциях, введённых в отношении России в связи с определёнными политическими и экономическими событиями). Это подтверждает идею о том, что «при идентификации изолированного слова носитель языка немедленно включает это слово в контекст своего предшествующего опыта; фактически это совпадает с идентификацией первого слова нового сообщения, восприятие которого не подготовлено ни ситуацией, ни предшествующим вербальным контекстом» [3: 195].
Обобщая результаты качественного анализа экспериментальных данных на этом этапе, мы можем сделать вывод, что при предъявлении стимулов вне контекста основными опорами для Ии. при доступе к контаминированному образованию в процессе идентификации являются:
-
1) опора на перевод и прямую дефиницию слова (переводные и псевдо-переводные реакции): thrillionaire < человек, у которого дух захватывает ; catastroika < стройка котов;
-
2) опора на фонетический образ (фонетические реакции, созвучные с исходным словом) с дальнейшим подразделением на следующие группы:
-
а) сходные по начальному элементу: Брексит < похоже на брекеты, возможно, из сферы стоматологии и ортодонт-систем; thrillionaire < thriller – a man who scares people, триллер;
-
б) сходные по конечному элементу: catastroika < стройка, лошади; пермь-зан < порода птиц;
-
3) опора на морфологические компоненты слова (опознание мотивирующего элемента слова): Брексит < место для отдыха в офисе, место для отдыха; бранч < breakfast + lunch, приём пищи между завтраком и обедом; фаблет < маленькая фабула, fabulous + outlet;
-
4) опора на возникающее у Ии. ощущение сходства слова-стимула с другими единицами языка (так называемые «графические соседи»): бранч < подразделение, отдел, ответвление, раздел, ветвь;
-
5) опора на эмоционально-оценочные переживания, когда даётся оценка предмету и описываются разные оттенки эмоционального отношения, признаётся важность участия чувственно-сенсорного компонента: джеггинсы < штаны из прочного облегающего тянущегося материала, обтягивающие лайкровые джинсы, джинсы из эластичного материала без молний и карманов, обтягивающие джинсы без молний и пуговиц;
-
6) опора на уже известную ситуацию, соотнесение со своим опытом и ранее полученными знаниями: Брексит < выход Великобритании из ЕС; фаблет < таб-лет, телефон, смартфон; пермьзан < что-то связанное с Пермью, может, сыр, который стали там делать после санкций.
Анализируя возможности выбора опоры, мы пришли к выводу, что в ряде случаев не представлялось возможным выделить приоритетные опорные элементы, так как реакции Ии. свидетельствуют о взаимодействии опор разного типа, что связано с «интеракцией разных видов знания в индивидуальном лексиконе в процессе распознавания слова» [5: 86].
Обобщая выявленные особенности способов опознания и извлечения значений контаминированных образований, мы сделали вывод, что идентификация кон-таминантов осуществляется по моделям последовательного доступа, предполагающего поэлементный анализ, и альтернативного (параллельного), понимаемого как схватывание целостного образа. Так, в нашем исследовании поэлементному анализу подверглось 63,4% всех предъявленных стимулов, в то время как целостному -36,6%. То, какой именно способ был задействован в каждом конкретном случае, зависело в первую очередь от степени знакомости/ известности единицы для индивида и её субъективной частотности. Субъективно высокочастотные контаминанты воспринимались Ии., предположительно, как неделимое целое (например, бранч < перекус ), подобно мономорфемным словам, где связь между значениями слов-источников и контаминированным образованием была утрачена. В некоторых случаях стимул и вовсе воспринимался не как многокомпонентная единица, относящаяся к периферийным слоям ментального лексикона, а как слово, зарегистрированное в толковых словарях английского языка (например, бранч < ветвь, ответвление, раздел ). С другой стороны, неизвестные/ малоизвестные слова, скорее всего, обрабатывались через составляющие их морфемы, так как репрезентация целого слова, которая могла бы быть активирована, отсутствовала. Так, субъективно низкочастотные контаминанты (например, thrillionaire ) конструировались из репрезентаций слов-источников, «чанков» ( chunks ), которые могли соотноситься со знакомыми элементами родного и/или изучаемого языка. По нашим наблюдениям, степень влияния родного языка и культуры находилась в определённой зависимости от уровня владения неродным языком искусственными билингвами: чем более незнакомым стимул казался Ии. по причине отсутствия фоновых знаний и/или недостаточной лингвистической подготовки, тем большее значение имел принцип опоры на родной язык (например, catastroika < стройка, стройка котов, лошади ).
Важно отметить, что идентификация контаминантов зависела также от степени усечённости компонентов слова. Понимание единиц с низкой степенью сокращения было связано с меньшими умственными затратами, чем с пониманием слов с высокой степенью сокращения. Полная форма слова-источника не всегда могла быть восстановлена из части, входящей в состав контаминанта (например, Брексит < имя, человек ). В этом случае соответствующая ментальная репрезентация не была активирована, а следовательно, значение стимула не могло быть понято верно.
Таким образом, нами было выяснено, что предпочтение поэлементному доступу к значениям контаминированных образований будет отдаваться в следующих случаях: а) стимул является для Ии. субъективно низкочастотным; б) присутствует фактор новизны; в) отсутствует контекст; г) есть мотивирующие морфемы, воспринимаемые Ии. как высокочастотные.
При прямом (непосредственном) доступе важными являются следующие предпосылки: а) стимул является для Ии. субъективно высокочастотным, так что может восприниматься как неделимое целое; б) отсутствует или слабо выражен фактор новизны; в) мотивирующие элементы контаминанта соотносятся с другим, уже знакомым словом («графическим соседом»).
При предъявлении стимулов вне контекста основными факторами, влияющими на доступ к значениям контаминанта, являются: а) субъективная частотность слова для Ии. как одно из проявлений внутреннего контекста; б) перцептивные факторы
(визуальная знакомость слова, звукобуквенное соответствие, частота повторения слова); в) степень выраженности лексических свойств контаминированных единиц (степень усечённости компонентов слова, орфографическое сходство с другими высокочастотными «соседями», частотность морфемы); г) интеграция опор в процессе идентификации слова; д) объём фоновых знаний родной культуры и культуры изучаемого языка; е) уровень лингвистической компетентности; ж) количество и качество словаря родного и изучаемого языков.
Следует отметить, что для большей части Ии. основополагающим фактором, влияющим на восприятие контаминированных образований, всё же явилась субъективная частотность слова: Ии. «перестраивали» первоначальное значение контаминанта под то, которое оказалось для них наиболее актуальным. Причём значения некоторых из этих единиц часто оказывались далёкими от значения исконного слова. Это даёт основания охарактеризовать процесс опознания и извлечения контаминированных образований из ментального лексикона как процесс, обратный блендингу в терминах Фоконье и Тёрнера [11], который в свою очередь предлагается рассматривать как процесс концептуальной дезинтеграции. При «распаковывании» контаминированных образований обнаруживается иное, индивидуальное значение слова, которое, с одной стороны, наследует роли и свойства исходных ментальных пространств и, с другой стороны, приобретает собственную структуру, «новые оттенки» и «смысловые нюансы» под влиянием внутреннего и внешнего (понимаемого широко) контекста. Поэтому восприятие контаминированного образования – это не столько познавательная, сколько распознавательная деятельность носителя языка как члена социума и представителя национальной культуры.
Итак, модель процесса идентификации контаминированного образования можно представить следующим образом. Процесс доступа к слову включает в себя несколько стадий и начинается с восприятия стимула. В зависимости от особенностей стимула он может восприниматься как цельнооформленное слово (когда слово ранее встречалось в различных контекстах и воспринимается как знакомое или через идентификацию отдельных составляющих. Под влиянием родного языка в силу специфики ситуации учебного двуязычия Ии. актуализируют внутреннюю форму слова, которая служит опорой для идентификации. В процессе поиска возможных опор идентификации выделяется основной опорный элемент, который ведёт к извлечению всей имеющейся информации о слове, т.е. его идентификации.
Список литературы Особенности доступа к контаминированным образованиям в ментальном лексиконе
- Гришкина Е.Н. Новизна лексической единицы как интегративный параметр психологической структуры значения слова (на материале психолингвистического эксперимента): дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Е.Н. Гришкина; Тверь: Твер. гос. ун-т., 2017. 179 с.
- Залевская А.А. Концептуальная интеграция как базовая ментальная операция // Слово и текст: психолингвистический подход: сб. науч. тр. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2004. Вып. 2. С. 56-71.
- Залевская А.А. Значение слова и «живой поликодовый гипертекст» // Вопросы психолингвистики. 2013. № 1 (17). С. 8-19.
- Новикова И.В. Психолингвистическое исследование идентификации полиморфемного слова при учебном двуязычии: автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.19 / И. В. Новикова; Тверь: Твер. гос. ун-т., 2011. 20 с.
- Сазонова Т.Ю. Моделирование процессов идентификации слова человеком: психолингвистический подход: монография. Тверь: Твер. гос. ун-т., 2000. 134 с.
- Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые концепты. Энциклопедия терминов (с английскими эквивалентами). М.: Издательство ЛКИ, 2012. 344 с.
- Aitchison J. Words in the mind: An introduction to the mental lexicon / J. Aitchison. Oxford: Basil Blackwell, 1987. 229 p.
- Baayen H.R. Dutch inflection: The rules that prove the exception / H.R. Baayen, R. Schreuder, N. De Jong, A. Krott // Storage and Computation in the Language Faculty. 2002. № 3. P. 61-92.
- Barret G. The Official Dictionary of Unofficial English [Текст] / G. Barret. New York: McGraw-Hill, 2006. 412 p.
- Collins English Dictionary: [электронный словарь] / URL: http://www.collinsdictionary.com. (Дата обращения: 01.02.2018).
- Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Basic Books, 2001. 440 pp.
- Google Trends [электронный сервис] / URL: https://trends.google.ru/trends/?geo=RU. (Дата обращения: 30.10.2018).
- Oxford Learner's Dictionaries: [электронный словарь] / URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com. (Дата обращения: 24.01.2018).
- Taft M. Morphological decomposition and the reverse base frequency effect // Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2004. № 57 (A). P. 745-746.