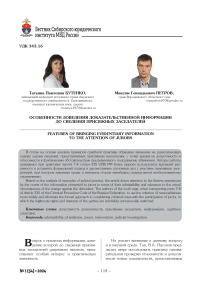Особенности доведения доказательственной информации до сведения присяжных заседателей
Автор: Бутенко Т.П., Петров М.Г.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 1 (54), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа примеров судебной практики обращено внимание на разноплановую оценку судами сведений, представляемых присяжным заседателям, с точки зрения их допустимости и относимости к фактическим обстоятельствам предъявленного подсудимому обвинения. Авторы работы призывают при трактовке частей 7-8 статьи 335 УПК РФ более широко использовать критерий разумности и устранить формальный подход к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей, при котором законные права и интересы сторон неизбежно подвергаются необоснованному ограничению.
Допустимость доказательств, присяжные заседатели, информация, судебное следствие
Короткий адрес: https://sciup.org/140303964
IDR: 140303964 | УДК: 343.16
Текст научной статьи Особенности доведения доказательственной информации до сведения присяжных заседателей
В опрос о пределах информации, доведение которой до сведения присяжных заседателей разрешено законом, представляет особый интерес и практическую значимость.
Не угасает внимание к данному вопросу и в научной среде. Так, В.А. Насонов предлагает шире использовать практику предварительной проверки относимости и допустимости новых доказательств, представляемых сторонами, дает положительную оценку использованию сторонами на этапе прений различных средств визуализации своих доводов, в том числе в электронной форме [1].
На недопустимость доведения до сведения присяжных заседателей вопросов, связанных с допустимостью доказательств, а также информации, способной вызвать у них предубеждение к качеству работы предварительного следствия и государственного обвинения, отрицательно повлиять на их беспристрастность при вынесении вердикта по делу, обращает внимание А.П. Рыжаков [5].
А.Е. Хорошева, наоборот, предлагает снять запрет на обсуждение в присутствии присяжных заседателей вопроса о допустимости доказательств [6].
Обращаясь к проблематике исследования фактической стороны доказательств, представляемых участниками процесса присяжным заседателям, необходимо отметить следующее.
По общему правилу в ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей могут быть исследованы только фактические обстоятельства уголовного дела, связанные с разрешением вопросов, перечисленных в ч. 1 ст. 334 УПК РФ.
Исходя из этого данные о личности подсудимого подлежат исследованию с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в которой это необходимо для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый. Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а равно иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. Запрещается оглашать в присутствии присяжных заседателей те же данные и в отношении потерпевшего. Обстоятельства, не относящиеся к факту вмененного подсудимому деяния, также не подлежат исследованию в судебном заседании в присутствии присяжных.
Как справедливо утверждают А. О. Ма-шовец и Д. С. Иванов, в ч. 8 ст. 335 УПК РФ речь идет о свойстве допустимости доказательств, а не свойстве относимости [4].
Обращаясь к рассматриваемой теме, авторы научных работ зачастую выражают убеждение в необходимости более широкого понимания очерченных законом границ. Например, Е.Г. Зейдлиц полагает, что если данные о личности подсудимого (в том числе и негативно его характеризующие, формально выходящие за рамки предъявленного подсудимому обвинения) связаны с установлением мотива преступления, наличия у него навыков, раскрывающих способ совершения преступления, то такие сведения надлежит озвучивать при присяжных, поскольку это помогает им с полным пониманием ответить на поставленные перед ними вопросы [2].
В то же время нельзя не отметить и обратную тенденцию – тяготение правоприменителя к максимально узкому пониманию положений закона о пределах доказательственной информации, исследование которой допустимо в присутствии присяжных заседателей.
К примеру, при рассмотрении судебной коллегией по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции уголовного дела в отношении К., осужденного приговором Завитинского районного суда Амурской области с участием присяжных заседателей от 20 ноября 2019 г. по ч. 1 ст. 139, п. «з» ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 105 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, суд кассационной инстанции констатировал существенное нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, выразившееся в изложении свидетелями в присутствии присяжных заседателей показаний в объеме, выходящем за рамки предъявленного подсудимому обвинения.
Согласно кассационному определению от 10 июня 2020 г. в качестве основания к отмене вышеуказанного приговора от 20 ноября 2019 г. и апелляционного определения от 25 февраля 2020 г. в отношении К. суд кассационной инстанции сослался на то, что вопреки требованиям ч. 7 ст. 335 УПК РФ, несмотря на то, что К. не вменялось избиение сви- детелей «1» и «2», указанное обстоятельство подробно выяснялось при допросе указанных лиц в судебном заседании в присутствии присяжных заседателей (куда ударил, зачем, были ли обращения по этому поводу). Председательствующим судьей соответствующие вопросы не снимались, присяжным заседателям не разъяснялось, что эти обстоятельства выходят за рамки вопросов, на которые им предстоит ответить. Напротив, в напутственном слове председательствующего эти обстоятельства были вновь озвучены1.
Допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, выразившиеся в представлении присяжным заседателям сведений о совершении других противоправных деяний, не относящихся к предъявленному обвинению, но способных вызвать предубеждение у присяжных заседателей в отношении подсудимого, судебная коллегия сочла существенными, повлиявшими на исход уголовного дела, в связи с чем приговор и апелляционное определение в отношении К. отменены с передачей уголовного дела на новое рассмотрение судом с участием присяжных заседателей.
Формально такая точка зрения выглядит убедительной. Однако же в данном случае свидетели сообщали суду не какие-либо отвлеченные, не соотносимые с обстоятельствами настоящего уголовного дела сведения, а рассказывали об обстоятельствах совершения подсудимым преступления как об одном и том же (нераздельном) событии, происходившем в одно и то же время и в одном и том же месте (согласно показаниям свидетелей «1» и «2» К., находясь с ними и потерпевшим в одном жилом помещении, сначала нанес удары им, а затем переключился на потерпевшего, нанеся ему телесные повреждения, от которых последний скончался), при том, что обвинение в нанесении побоев свидетелям «1» и «2» не могло быть предъявлено К. ввиду установленных действующим уголовно-процессуальным законодательством особенностей порядка привлечения к уголовной ответственности по делам частного обвинения – в связи с нежеланием свидетелей «1» и «2» обратиться с заявлением о привлечении К. к уголовной ответственности по поводу их избиения.
На наш взгляд, правильность определения судом кассационной инстанции пределов информации, доведение которой до сведения присяжных заседателей разрешено законом, в данном случае можно поставить под сомнение, поскольку, как было отмечено выше, никакие сведения, не соотносимые с фактическими обстоятельствами вмененного подсудимому преступления, свидетелями перед присяжными не раскрывались.
Достаточно обосновано критикует диспозицию ч. 8 ст. 355 УПК РФ С. П. Щерба, отмечая, что «обозначенные предписания ограничивают гарантированное ст. 333 УПК РФ право присяжных заседателей участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, а также не указывают на то, какие конкретно «иные данные» способны вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого» [7].
Д.С. Иванов указывает на тот факт, что положение ч. 8 ст. 335 УПК РФ сужает предмет доказывания, согласно которому данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется [3].
Для более четкого понимания рассматриваемой проблемы целесообразно провести параллель с рассмотрением уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, – данные уголовные дела в случае обвинения лица по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ при наличии соответствующего ходатайства обвиняемого также подлежат рассмотрению судом с участием присяжных заседателей.
Довольно часто в процессе доказывания совершения лицом противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств по таким делам используются результаты оперативно-розыскных мероприятий. Как следует из разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, данного в п. 14 постановления от 15 июня 2006 г. N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с последующими изменениями), оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, а также выявление и установление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего, может проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица, в отношении которого осуществляется такое мероприятие, в подготовке или совершении противоправного деяния.
Кроме этого согласно устоявшимся правовым позициям осуждение лица за действия, направленные на распространение наркотических средств, возможно лишь в том случае, если умысел такого лица на совершение преступления сформировался независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, проводивших оперативно-розыскные мероприятия.
Убежденность в этом может базироваться на содержащихся в материалах уголовного дела сведениях о причастности обвиняемого к иным фактам незаконной деятельности в сфере оборота наркотиков – то есть на показаниях свидетелей и иных доказательствах, формально не относящихся напрямую к предъявленному обвинению и, соответственно, выходящих за его пределы.
В данном случае узкое (или формальное) понимание пределов информации, доведение которой до сведения присяжных заседателей разрешено законом, существенным образом ограничивало бы компетенцию присяжных заседателей, не позволяя им получить полное восприятие события, являющегося предметом судебного разбирательства, тогда как разрешение вопроса о виновности подсудимого возложено на них, как судей факта, законом.
Также нельзя не заметить, что по уголовным делам, по которым оперативно-розыскные мероприятия не проводились, доказывание умысла на незаконный сбыт наркотических средств предполагает исследование доказательств, которые могут свидетельствовать о причастности подсудимого к совершению иных (косвенным образом связанных с предъявленным обвинением, но не отраженных в нем) действий в сфере незаконного оборота наркотических средств.
В этой связи предпочтительной представляется позиция, выраженная судом апелляционной инстанции по уголовному делу в отношении В., осужденного приговором Благовещенского городского суда Амурской области от 24 сентября 2021 г., постановленным с участием присяжных заседателей, по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима1.
Давая оценку доводам апелляционных жалоб осужденного В. и его защитника о недопустимости исследования в присутствии присяжных заседателей доказательств, судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда в апелляционном определении от 31 января 2022 г. отметила, что исходя из установленной законом компетенции присяжных заседателей, определенной в ч. 1 ст. 334 УПК РФ, и принимая во внимание то обстоятельство, что В. обвинялся органом предварительного расследования в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, судебная коллегия не может согласиться с доводами апелляционных жалоб осужденного и его защитника о незаконности исследования в присутствии присяжных заседателей по ходатайству государственного обвинителя доказательств, содержащих сведения о возможной причастности В. к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, поскольку такие све- дения подлежали оценке присяжными заседателями в связи с необходимостью разрешения ими вопроса о наличии у В. указанной в обвинительном заключении, по версии органа предварительного следствия, цели совершения инкриминируемого ему преступления – и в этой связи названные доказательства являются относимыми к предъявленному В. обвинению.
Лишение государственного обвинителя возможности представить присяжным заседателям доказательства, подтверждающие, по мнению стороны обвинения, наличие у В. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, ограничивало бы право стороны обвинения на представление присяжным заседателям доказательств, лишая, в свою очередь, и присяжных заседателей возможности оценить представленные сторонами доказательства в их совокупности и на основе произведенной оценки доказательств разрешить поставленные перед ними вопросы, предусмотренные п.п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.
Значительный научный интерес в рамках освещаемой проблемы представляет ситуация, когда в ходе судебного заседания с участием присяжных заседателей «запрещенные» законом сведения, формально свидетельствующие против той или иной стороны, соответствующая сторона желает использовать в своих интересах.
К примеру, Воронежским областным судом с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело, по которому Ш.А.А. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 5 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а К.Д.О. и К.В.В. – в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ1.
По данному делу К.Д.О. и К.В.В. в числе прочего обвинялись в убийстве К.А.И. при пособничестве Ш.А.А. с целью хищения находящихся на банковском счете потерпевшей денежных средств и иного ценного имущества, принадлежащего потерпевшей.
Согласно предъявленному обвинению, совершить нападение на К.А.И. и ее убийство подсудимые планировали в безлюдном месте, куда К.А.И. должна была проследовать совместно с К.Д.О., К.В.В. и Ш.А.А. по предложению последнего под вымышленным предлогом совместного отдыха. Доступ к банковскому счету потерпевшей с целью изъятия с него денежных средств подсудимые должны были получить после убийства К.А.И. и завладения принадлежащим ей мобильным телефоном.
В ходе судебного следствия Ш.А.А. изложил перед присяжными заседателями версию о том, что совершить хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей планировал только он, не ставя в известность других подсудимых (для чего и организовал совместный с подсудимыми и потерпевшей выезд в другой населенный пункт), а убийство К.А.И. совершил К.Д.О. в результате ссоры с потерпевшей.
Для обоснования данной версии Ш.А.А. и его защитник планировали довести до сведения присяжных заседателей информацию о том, что Ш.А.А. ранее уже похищал денежные средства с банковского счета потерпевшей К.А.И. с использованием ее мобильного телефона, за что был осужден приговором Борисоглебского городского суда Воронежской области от 23 декабря 2020 г. Таким образом, как утверждали подсудимый и его защитник, у Ш.А.А. не было никакой необходимости убивать потерпевшую, ему было достаточно лишь завладеть ее мобильным телефоном, используя который он мог осуществить денежный перевод со счета К.А.И., что он успешно проделывал и ранее.
Выяснив в отсутствие присяжных заседателей мнение участников судебного процесса по данному вопросу, председательствующим судьей принято следующее решение по вопросу представления доказательств присяжным заседателям, отраженное в протоколе судебного заседания: «Поскольку подсудимый Ш.А.А. и его защитник – адвокат С. связывают то обстоятельство, что ранее Ш.А.А.
уже совершал хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей К.А.И. при помощи принадлежащего ей мобильного телефона, со способом планируемого повторного хищения принадлежащих К.А.И. денежных средств, тем самым обосновывая утверждение о непричастности Ш.А.А. к убийству К.А.И., – с учетом закрепленного в ч. 1 ст. 15 УПК РФ принципа осуществления уголовного судопроизводства на основе состязательности сторон и несогласия подсудимого Ш.А.А. и его защитника – адвоката С. с предъявленным Ш.А.А. обвинением – исследование с участием присяжных заседателей отдельных обстоятельств, связанных с похищением Ш.А.А. ранее денежных средств с банковского счета потерпевшей К.А.И. и его осуждением за это, допустимо и не противоречит предписаниям ст. 335 УПК РФ.
Если сторона защиты пожелает воспользоваться данной возможностью, имеющаяся в материалах дела копия приговора Борисоглебского городского суда Воронежской области от 23 декабря 2020 г. в отношении Ш.А.А. может быть оглашена в присутствии присяжных заседателей лишь в части фактических обстоятельств совершенного преступления, установленных судом».
В данном случае решение о доведении до присяжных заседателей информации, с формальной точки зрения, способной вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого, принято исходя из позиции самих подсудимого и его защитника, пожелавших использовать данную информацию для защиты от выдвинутого против подсудимого обвинения.
Несмотря на установленный в ч. 8 ст. 335 УПК РФ запрет, сведения о прежней судимости в отношении подсудимого могут исследоваться в присутствии присяжных заседателей и в том случае, если они необходимы для установления мотива преступления или отдельных его признаков, – к примеру, при рассмотрении судом с участием присяжных заседателей уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, если в основу вмененных подсудимым при- знаков сплоченности и устойчивости сформированной организованной группы положены данные об их отношениях, связанных с совместным отбыванием уголовного наказания ранее, а также о возникших на этой почве общих жизненных ценностях, стремлениях и целях.
Таким образом, положения ч. 8 ст. 335 УПК РФ неразрывно связаны с обстоятельствами и условиями рассмотрения конкретного уголовного дела.
В этой связи возможно выдвинуть научную гипотезу о наличии «гибких императивов» в сфере правового регулирования рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей, допускающих варианты действий, отличные от строго обозначенных в законе, но в то же время соответствующие критерию разумности и предполагающие неукоснительное соблюдение законных прав и интересов сторон.
Правомерность доведения доказательств до сведения присяжных заседателей характеризуется их допустимостью (то есть соответствием требованиям закона) и относимостью (то есть соотношением с предъявленным обвинением). И если первый критерий не вызывает особых затруднений в правоприменительной деятельности, то к вопросу относимости доказательств следует подходить максимально взвешенно и разумно.
В результате представляется, что предмет доказывания для присяжных заседателей содержательно более сужен по сравнению с предметом доказывания для профессиональных судей, так как нормы чч. 7, 8 ст. 335 УПК РФ исключают из предмета доказывания ряд обстоятельств. Вместе с тем присяжные заседатели проводят исследование личности подсудимого (не процессуальное, а по внутренним убеждениям), которое так или иначе отражается на вердикте, например, при разрешении вопроса о снисхождении. В связи с этим предлагаем рассмотреть вариант иного изложения диспозиции ч. 8 ст. 335 УПК РФ, что впоследствии позволит исключить ограничение в получении информации присяжными и обеспечит справедливое судебное разбирательство.
Список литературы Особенности доведения доказательственной информации до сведения присяжных заседателей
- Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: "НОРМА", "ИНФРА-М", 2023.
- Зейдлиц, Е.Г. Исследование в суде присяжных данных о личности подсудимого и мотивах совершенного им деяния / Е.Г. Зейдлиц // Уголовный процесс. - 2024. - N 1. - С. 41-44. EDN: IRBQQQ
- Иванов, Д.С. Особенности предмета доказывания при производстве в суде с участием присяжных заседателей / Д.С. Иванов // Вестник ЮУрГУ. Серия "Право". - 2022. - Т. 22. - N 2. - С. 12-16. EDN: QPKZAJ
- Машовец, А.О. Особенности оценки доказательств при производстве в суде с участием присяжных заседателей / А.О. Машовец, Д.С. Иванов // Вестник ЮУрГУ. Серия "Право". - 2021. - Т. 21. - N 1. - С. 30-36. EDN: VROLIP
- Рыжаков, А.П. Права, обязанность и ответственность защитника. Комментарий к статье 53 УПК РФ / А.П. Рыжаков // СПС "КонсультантПлюс", 2022.
- Хорошева, А.Е. Некоторые особенности оценки заключения эксперта в суде с участием присяжных заседателей / А.Е. Хорошева // Российский следователь. - 2020. - N 2. - С. 27. EDN: SRNKAI
- Щерба, С.П. Основания и правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения / С.П. Щерба // Законность. - 2020. - N 12. - С. 50-56. EDN: DMOLYP