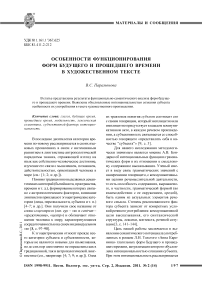Особенности функционирования форм будущего и прошедшего времени в художественном тексте
Автор: Парамонова Виктория Сергеевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты функционально-семантического анализа форм будущего и прошедшего времени. Выявлены обусловленные интенциональностью сознания субъекта особенности их употребления в тексте художественного произведения.
Глагол, будущее время, прошедшее время, модальность, лексическая семантика, субъективный фактор, интенциональность
Короткий адрес: https://sciup.org/14969566
IDR: 14969566 | УДК: 811.161.1367.625
Текст научной статьи Особенности функционирования форм будущего и прошедшего времени в художественном тексте
В последние десятилетия категория времени по-новому рассматривается в своих языковых проявлениях в связи с интенсивным развитием в лингвистике антропологической парадигмы знания, отражающей взгляд на язык как собственно человеческое достояние, изучение его связи с мышлением, познанием, действительностью, ориентацией человека в мире (см.: [1; 2; и др.]).
Помимо традиционно выделяемых семантических категорий (бытийности, пространства, времени и т. д.), формирование которых связано с антропологическим фактором, внимание лингвистов привлекают эгоцентрические категории (лица, персональности, субъекта и т. п.) [4–7; и др.]. Они получили свое название от слова эгоцентризм (лат. ego – «я» и centrum – «средоточение», «центр») и обозначают отношение человека к миру, характеризующееся сосредоточенностью на своем индивидуальном «я» [8, с. 97–98].
К эгоцентрическим относят прежде всего категории субъекта и субъективности, которые не являются новыми для языкознания, но до сих пор однозначно не определены как в традиционной, так и антропологической лингвистике (см., например: [4; 7; 9; и др.]). Одна из трактовок понятия субъект соотносит его с самим говорящим, который эксплицитно или имплицитно присутствует в каждом коммуникативном акте, в каждом речевом произведении, а субъективность связывается со способностью говорящего «представлять себя в качестве “субъекта”» [9, с. 3].
Для нашего исследования методологически значимым является мнение А.В. Бон-дарко об интенциональных функциях грамматических форм в их отношении к смысловому содержанию высказывания. Ученый имеет в виду связь грамматических значений с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности, то есть способность содержания, выражаемого, в частности, грамматической формой (во взаимодействии с ее окружением, средой), быть одним из актуальных элементов речевого смысла. Степень реализованности фактора субъекта зависит от конкретных условий речевого употребления: коммуникативной цели высказывания, его синтаксической структуры, лексики, контекста, речевой ситуации [3, c. 141–144].
Цель нашей работы заключается в выявлении семантического потенциала употребленных в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» глагольных форм будущего и прошедшего времени, актуализация которого обусловлена интенциональностью сознания субъекта. При этом интенциональность рассматривается как субъективная направленность сознания на действие, когда говорящий представляет себя в качестве субъекта сообщаемого факта или факта сообщения и выражает свое отношение к этому действию. Именно интенциональность сознания говорящего влияет на выбор глагольной словоформы, актуализирует ее потенциальные возможности в том или ином контексте, отражающем ту или иную ситуацию общения.
Функционально-семантический анализ употребления форм будущего и прошедшего времени в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» позволил установить, что реализация интенциональных функций временных форм обусловлена причастностью субъекта (говорящего, пишущего) к сообщаемым фактам в каждом коммуникативном акте.
В каждом случае употребления глагольных словоформ в романе Л.Н. Толстого мы устанавливаем не только связь действия с тем или иным типом субъекта, но и описываем влияние интенциональности сознания субъекта на характер осуществления действия по отношению к моменту речи. Учет этого взаимодействия позволяет выявить как функционально-семантический, так и прагма-семантический потенциал рассматриваемых глагольных словоформ в условиях речевых ситуаций.
Фактор субъекта проявляется прежде всего в восприятии будущего, которое мыслится как реальное или ирреальное.
Восприятие реально осуществимого будущего может быть связано с целевой установкой говорящего, которая обусловливает развитие модальных значений. Так, в предложении Во вторник я буду в Петербурге, и все решится (т. 1, с. 346) цель говорящего, выступающего в качестве субъекта сообщаемого факта, заключается в том, чтобы сообщить информацию о предстоящей поездке. Выражению данной интенции способствуют глагольная словоформа будущего времени – буду и контекстуальный уточнитель во вторник, что свидетельствует о твердом решении, поскольку выбран даже день для осуществления действия. Целевая установка субъекта способствует тому, что словоформа буду приобретает дополнительное модальное значение намерения. В этом примере выражает- ся также уверенность говорящего в достижении определенного результата тогда, когда он приедет в Петербург. Этому способствуют глагольная словоформа решится, употребленная в форме будущего времени совершенного вида в значении «окончательно определиться» и определительное местоимение всё.
Восприятие будущего, которое мыслится как ирреальное, эксплицируется тогда, когда говорящему важно подчеркнуть обычность или типичность действия. В этом случае употребляется форма будущего простого в значении настоящего абстрактного. Создается иллюзия конкретного факта, существующего безотносительно к моменту речи. Этому способствует также актуализированное наглядно-примерное значение совершенного вида. Выделяется один из повторяющихся актов, который представляется как ограниченный пределом целостный факт, являющийся своего рода наглядным примером других подобных актов.
Так, в предложении Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь (т. 1, с. 8) условием употребления формы будущего в плане настоящего абстрактного является наличие двух связанных друг с другом действий: не скажешь словами и мыслями не выразишь . Говорящий, выступающий в качестве субъекта факта сообщения, на что указывают формы 2-го л. ед. ч., акцентирует внимание на повторяющихся, типичных действиях. Семантика настоящего абстрактного характеризуется дополнительным модальным оттенком невозможности осуществления действия. Усилительные частицы да и даже актуализируют не только грамматическое значение глагольных словоформ в модальном плане, но и совместно с повторяющейся отрицательной частицей не служат средством выражения негативного эмоционального состояния субъекта.
Интенциональность сознания субъекта влияет не только на реализацию потенциальной семантики будущего времени, но и на актуализацию дополнительных значений прошедшего времени. Глагольные формы прошедшего времени, в отличие от форм будущего времени, являются потенциально личными, поскольку свою субъектную на- правленность они получают в условиях речевого контекста. Особенно ярко это проявляется у аористических форм глаголов совершенного вида.
Так, в предложении Левин покраснел и от стыда и от досады на свою жену... <...> ...но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами... (т. 2, с. 70) представлены глагольные словоформы прошедшего времени совершенного вида покраснел , сжалась , покраснела , помогающие передать эмоциональное состояние героев романа. Аористическое употребление глагольных форм покраснел , сжалась, покраснела свидетельствует о прошедшем факте без указания на наличный результат прошедшего действия. Лексическая семантика этих глагольных словоформ указывает на напряженное эмоциональное состояние героев. Глагольная лексема сжиматься употребляется в данном предложении в значении «испытывать острое, болезненное чувство стеснения». Глагольная лексема покраснеть используется в прямом значении «становиться красным, пунцовым от прилива крови к коже, стыдясь чего-либо». В данном предложении представлены два субъекта факта сообщения, указывающих на персонажей романа – Левина и Марью Николаевну. Метафорическое употребление глагольных словоформ сжалась и покраснела свидетельствует о переживании субъектами отрицательных эмоций во время их совместного разговора. Повтор глагольной словоформы покраснела и фразеологическое сочетание покраснела до слез подчеркивает напряженное эмоциональное состояние одного из субъектов сообщаемого факта.
В предложении Я решил, но боюсь, что ты не изъявишь согласия (т. 2, с. 23) форма прошедшего времени глагола решить в значении «приходить к какому-либо выводу, заключению относительно чего-либо после размышления, обдумывания» употребляется в перфектном значении. Коммуникативная цель субъекта сообщаемого факта, выраженного личным местоимением я, – сообщить о своем решении, но при этом выразить опасение относительно согласия собеседника. Употребление глагольной лексемы бояться в значе- нии «испытывать беспокойство, страх перед кем-либо, чем-либо угрожающим, обычно предчувствуя какую-либо опасность» подчеркивает негативное эмоциональное состояние говорящего – его боязнь относительно действий субъекта факта сообщения. Это состояние обусловливает соотношение разных временных форм (решил, боюсь, не изъявишь), передающих контаминацию модальной и эмоциональной семантики. Глагольная словоформа настоящего времени боюсь и глагольная словоформа будущего времени не изъявишь актуализируют перфектное значение у словоформы решил.
Формы прошедшего времени глаголов несовершенного вида могут выступать в контексте абстрактного настоящего для демонстрации единичного факта, который представлен так, как будто он уже осуществился, но контекст указывает на то, что такие факты обычны, причем их обычность отнесена к широкому плану настоящего. В предложении Степан Аркадьич, очевидно, желал того же, и на его лице Левин видел выражение озабоченности, которое всегда бывает у настоящего охотника пред началом охоты... (т. 2, с. 167) глагольные словоформы прошедшего времени желал и видел употребляются в сочетании с формой настоящего времени бывает . Сочетание разных временных форм ( желал , видел , бывает ) относит действия к плану настоящего. Наречие всегда демонстрирует интенциональную установку говорящего на интерпретацию события как не просто случайного, а постоянного. Вводномодальное слово очевидно подчеркивает вероятность действия, связанную с сомнением субъекта факта сообщения.
Таким образом, функционально-семантический анализ употребления форм будущего и прошедшего времен свидетельствует о том, что реализация семантического потенциала данных форм в художественном тексте (в частности, романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина») определяется интенциональностью сознания субъекта, которая связана с его целевой установкой, с выражением отношения субъекта к действию или его эмоциональным состоянием. Это проявляется, во-первых, в том, что значение глагольных форм будущего и прошедшего времени осложняется модаль- ным значением, конкретизирующим отношение субъекта к предстоящим или прошедшим действиям (событиям): уверенностью, намерением и др. Во-вторых, временные формы в зависимости от интенциональности субъекта могут употребляться в переносном лексическом значении, в значении других форм времени. Учет взаимодействия лексической, грамматической, модальной семантики позволяет не только выявить специфику реализации интенциональности сознания субъекта рассматриваемыми глагольными словоформами, но и определить их функционально-семантический и прагмасемантический потенциал в условиях художественного текста.
Список литературы Особенности функционирования форм будущего и прошедшего времени в художественном тексте
- Апресян, Ю. Д. Избранные труды. В 2 т. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография/Ю. Д. Апресян. -М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1995. -767 с.
- Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека/Н. Д. Арутюнова. -М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1999. -896 с.
- Бондарко, А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка/А. В. Бондарко. -М.: Яз. слав. культуры, 2002. -736 с. -(Studia philologica).
- Гайсина, Р. М. Лексико-семантическое поле глаголов отношения в современном русском языке/Р. М. Гайсина. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981. -196 с.
- Гуреев, В. А. Языковой эгоцентризм в новых парадигмах знания/В. А. Гуреев//Вопросы языкознания. -2004. -№ 2. -С. 57-67.
- Гуссерль, Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука/Э. Гуссерль. -Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000. -750 c.
- Новиков, Л. А. Семантика русского языка: учеб. пособие/Л. А. Новиков. -М.: Высш. шк., 1982. -272 с.
- Омельченко, С. Р. Антропоморфизм языковых категорий/С. Р. Омельченко//Антропология языка: сб. ст./отв. ред. С. Р. Омельченко. -М.: Флинта: Наука, 2010. -Вып. 1. -С. 96-103.
- Русская грамматика: в 2 т./редкол.: Н. Ю. Шведова [и др.]. -М.: Наука, 1980. -Т. 1: Фонетика. Словообразование. Морфология. -783 с.