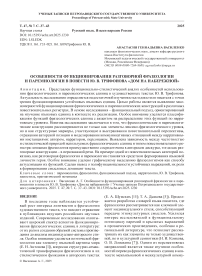Особенности функционирования разговорной фразеологии и паремиологии в повести Ю. В. Трифонова «Дом на набережной»
Автор: Василенко А.Г.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 7 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Представлен функционально-стилистический анализ особенностей использования фразеологических и паремиологических единиц в художественных текстах Ю. В. Трифонова. Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью идиостиля писателя с точки зрения функционирования устойчивых языковых единиц. Целью работы является выявление закономерностей функционирования фразеологических и паремиологических конструкций в различных повествовательных регистрах. В основе исследования – функциональный подход, ориентированный на изучение языковых единиц в контексте их реализации. Особое внимание уделяется классификациям функций фразеологических единиц с акцентом на распределение этих функций по нарративным уровням. Новизна исследования заключается в том, что фразеологические и паремиологические конструкции рассматриваются не только как элементы лексико-фразеологического уровня, но и как структурные маркеры, участвующие в выстраивании повествовательной перспективы, отражении авторской позиции и моделировании коммуникативных отношений между нарративными инстанциями: автором, нарратором, персонажем. Выявлена зависимость между частотностью и стилистической природой используемых фразеологических единиц и типом повествовательного регистра: книжная фразеология преимущественно сосредоточена в авторском дискурсе, тогда как разговорные конструкции – в персонажной речи. На примере одной из повествовательных категорий показано, как разговорная фразеология и паремиология становятся средством формирования языковой личности героя. Особое внимание уделено графическому выделению фразеологизмов как способу актуализации их функций. Сделан вывод о полифункциональности устойчивых выражений, их роли в формировании смысловых доминант текста.
Паремиология, фразеология, функциональный подход, нарратология, Ю. В. Трифонов, идиостиль, прагматический потенциал
Короткий адрес: https://sciup.org/147252145
IDR: 147252145 | УДК: 811.161.1'33+821.161.1(09)Трифонов Ю. В. | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1230
Текст научной статьи Особенности функционирования разговорной фразеологии и паремиологии в повести Ю. В. Трифонова «Дом на набережной»
В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса лингвистов к фразеологии художественного текста, что находит отражение в публикациях ведущих российских научных изданий. Современные исследования охватывают широкий спектр аспектов функционирования фразеологических единиц в литературе: от их роли в создании образной системы произведения до анализа индивидуально-авторского стиля. Особое внимание уделяется поэтической фразеологии как элементу языковой картины мира (Е. Н. Антонова [1]), вопросам структурно-семантической трансформации фразеологизмов и их стилистическим функциям в авторских текстах
(Е. А. Шумских [15]; Т. А. Дьякова [5]). Продолжается разработка словарей языка писателя, где фразеология рассматривается как ключевой элемент индивидуального стиля, способствующий передаче этнокультурных смыслов. Усилился интерес исследователей к функциональному потенциалу паремий и крылатых выражений в прозаических произведениях, особенно в региональной литературе, что позволяет рассматривать их как элементы не только художественной, но и культурной семиотики (Н. И. Комкова, О. В. Ломакина [7]). Одним из перспективных направлений является также изучение особенностей перевода фразеологических единиц в контексте межъязыковой и межкультурной комму- никации, что позволяет выявить семантические сдвиги и культурные трансформации при передаче образной информации (В. А. Данилова [3]). В данной статье мы будем опираться на представление о функционировании фразеологических единиц в художественном тексте как на значимое средство создания образной структуры произведения и характеризации персонажей.
***
Фразеологические и паремиологические единицы включены в фокус внимания лингвопоэти-ки, рассматриваются как инструментарий, характерная идиостилевая черта, средство языковой выразительности художественного текста. Их эстетический потенциал применительно к творчеству прозаиков и поэтов разных эпох неоднократно привлекал внимание как лингвистов, так и литературоведов при изучении творческого наследия отдельных авторов. Однако применительно к творчеству Ю. В. Трифонова до настоящего времени не сложилось стройного и последовательного описания, связанного с функционированием фразеологических и паремиологических единиц в художественных текстах автора. Недостаточная изученность этого вопроса подчеркивает значимость настоящего исследования, направленного на восполнение пробелов в понимании идиостиля писателя и роли фразеологических средств. Особого внимания заслуживает тот факт, что произведения Ю. В. Трифонова, особенно тексты московских повестей, неоднократно становились иллюстративным материалом в лексикографической практике, свидетельствуя о богатстве и разнообразии фразеологических и паремиологических ресурсов языка писателя.
Мы исходим из понятия фразеологизма, заложенного в трудах Н. М. Шанского. Фразеологизм, фразеологическая единица - это
«общее название семантически несвободных сочетаний слов, которые не производятся в речи (как сходные с ними по форме синтаксические структуры - словосочетания или предложения), а воспроизводятся в ней в социально закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового содержания и определенного лексико-грамматического состава. Семантические сдвиги в значениях лексических компонентов, устойчивость и воспроизводимость - взаимосвязанные универсальные и отличительные признаки фразеологизма» [13: 21].
Среди отличительных признаков фразеологизма - устойчивость, воспроизводимость, целостность значения, идиоматичность, образность, вариативность.
В текстах художественных произведений Ю. В. Трифонова фразеологические и паремио-логические конструкции преимущественно по- лифункциональны, связаны с ключевыми текстовыми категориями (дом, время, жизнь, смерть и мн. др.); могут выступать в качестве тезаурусообразующих единиц, способных вводить в текст ценностный, лингвокультурологический смысл. В свою очередь, как отмечает А. В. Королькова, «ценностная парадигма в диахронии отражается в устойчивых словесных формулах, оборотах речи. Это, прежде всего, фразеологические единицы и паремии, а также афоризмы и крылатые выражения» [8: 485]. Фразеологические и па-ремиологические конструкции активно используются в сильных текстовых позициях (термин использован вслед за И. В. Арнольд), являются ключевыми текстовыми единицами.
При интерпретации фразеологических и паре-миологических единиц мы опираемся на функциональный подход. Он предполагает необходимость описания, определения и изучения языковых единиц любого уровня в конкретных условиях их функционирования - в контексте, где они участвуют в реализации коммуникативных и эстетических задач. Такой подход акцентирует внимание на прагматическом и эстетическом потенциале фразеологических и паремиологических конструкций, на их способности формировать текстовое единство и выявлять значимые смысловые и ценностные доминанты произведения.
Заслуживает внимания и тот факт, что в прозе Ю. В. Трифонова фразеологические и паремио-логические единицы могут быть выделены графически, что позволяет трактовать их не только как элементы лексико-фразеологического уровня, но и как особые семиотические знаки, интегрированные в систему идиостиля писателя. Уже в ранних произведениях писатель экспериментирует с различными приемами графического оформления - курсивом, разрядкой, полужирным шрифтом, прописными буквами в массиве строчных, использованием креолизованных текстов и др. Подобные визуальные маркеры не только привлекают внимание читателя, но и направляют восприятие текста адресатом, нарушая автоматизм чтения.
К настоящему времени сложилось множество подходов, связанных с пониманием оснований для выделения функций фразеологических и па-ремиологических единиц. В. М. Савицкий в работе «Основы общей теории идиоматики» выделяет такие функции, как идентифицирующая, дефиниционная, характеризующая, мнемотехническая, выразительная, изобразительная, эвфемистическая; криптолалическая (конспиративная), экспрессивная, эмотивно-оценочная, функция сентенциозной оценки, моделирующая, кумулятивная, функция выражения размытых понятий и др. [11: 178–181].
Значимым представляется и учет прагматического компонента: фразеологические и паре-миологические единицы способствуют выражению отношения говорящего «к номинируемому фрагменту действительности, к адресату и всей ситуации речевого общения <…> достижению определенного прагматического эффекта» [4: 110]. Среди прагматических функций фраземы Е. А. Добрыднева выделяет фатическую, побудительную, эмоционального воздействия, достижения эмпатии, формирования мнения, эстетического воздействия и т. д. [4].
В контексте настоящего исследования мы будем опираться на подход, заданный в трудах О. В. Ломакиной, отмечающей иерархичность функциональной стороны фразеологии, полифункциональность данных языковых средств, необходимость анализа функционирования фразеологических и паремиологических единиц внутри контекста [9].
Другой значимой предпосылкой становится учет фактора принадлежности фразеологической единицы дискурсу той или иной повествовательной категории. Подходом, позволяющим интерпретировать функционирование фразеологических конструкций через призму повествовательных форм в процессе их взаимодействия, становится лингвистика нарратива, дисциплина, изучающая «формальные правила извлечения из повествовательного текста всей той семантической информации, которую получает из него человек как носитель языка» [10: 41]. В настоящей статье нарратология понимается как дисциплина, анализирующая литературу сквозь призму коммуникативного подхода, при котором литературный текст мыслится как акт передачи смысла, осуществляющийся на множественных повествовательных уровнях. Такой подход позволяет интерпретировать нарратив как цепочку взаимосвязанных коммуникативных инстанций, включающую автора, наррато-ра, наррататора и читателя. Особое внимание в статье уделяется анализу повествовательных партитур и выявлению структурных отношений между различными субъектами нарратива. В качестве теоретической модели используется концепция коммуникативных уровней, разработанная В. Шмидом, в рамках которой мы исходим из определения повествовательной категории как инстанции нарративного литературного текста, рассказа, дискурса или разных категорий автора и читателя [14]. Ограничения данного под- хода представлены в публикации И. Ю. Третьяковой «Проблемы изучения фразеологических единиц в дискурсе» [12].
Фразеологические и паремиологические единицы в произведениях Ю. В. Трифонова частотны как для речевых партий повествователей (нарра-торов), так и для персонажной речи. В этом ракурсе они не только становятся средством индивидуализации речи героев, но и выполняют функцию маркировки повествовательного регистра, сигнализируя о смене повествовательной перспективы или о переключении коммуникативных уровней. Таким образом, в контексте данного подхода можно говорить об особенностях функционирования фразеологических и пареми-ологических конструкций в дискурсе отдельных повествовательных категорий. Анализ фразеологических конструкций позволяет выявить ряд закономерностей, связанных с их функционированием в художественном тексте.
Частотность использования фразеологических единиц варьируется в зависимости от повествовательного регистра. Наименьшая частотность отмечается в нейтральном повествовательном дискурсе, тогда как в персонажной речи фразеологические и паремиологические конструкции используются значительно активнее. Установлена корреляция между стилистической принадлежностью используемых фразеологизмов и типом повествовательного регистра: книжные фразеологические единицы чаще встречаются в дискурсе повествователя, а разговорные и стилистически маркированные конструкции преобладают в речи персонажей и зачастую закрепляются за конкретными героями.
Особое внимание необходимо уделить ключевым с точки зрения сюжетной организации эпизодам произведения, в которых наблюдается максимальная концентрация смыслов. Фразеологические и паремиологические единицы, используемые одновременно в дискурсах разных повествовательных категорий, обеспечивают многоракурсность и многоплановость изображения событий, отражая различные позиции и оценки. Графическое выделение фразеологизмов в таких эпизодах усиливает их смысловую значимость, акцентирует читательское восприятие и способствует раскрытию глубинных ценностных и смысловых констант текста. В подобных случаях можно говорить о проявлении авторского отношения к изображаемому, которое «сравнительно редко находит отражение в прямых оценках, но проявляется на разных уровнях системы текста»1.
В качестве примера яркой персонажной речи целесообразно привести наблюдения, связанные с дискурсом Льва Шулепникова. Он (Шулепа)
въехал в Дом на набережной вместе со своим отчимом, переехал «в большой дом откуда-то из пригорода или даже, кажется, из другого города» (373)2. В студенчестве Шулепников необъяснимо быстро стал деятелем. «Впрочем, объяснимо: за кулисами стоял отчим, обладавший гигантскими возможностями» (370). Но вскоре все изменилось:
«…несколько лет спустя, его жизнь перевернулась, второй его “батя”, похожий на усатого запорожца, оказался не у дел, дом рухнул, машина исчезла, мать чудом уцепилась за что-то, оставшись в одиночестве, а Левка превратился в мелкого футбольного администратора, ездил с командой из города в город, добывал гостиницу, бутсы, мячи, “левые” игры и пьянствовал, за что вскоре был изгнан отовсюду, и потом занимался неизвестно чем» (484).
Cквозь временные пласты мы вновь видим Шулепу: мебельного подносилу, которого «в одну страну заряжают года на три», сторожа на кладбище, где похоронена Соня. Для формирования целостной характеристики языковой личности персонажа необходимо систематизировать весь его речевой материал в художественном произведении [6: 70]. В речи Левки Шулепникова частотны разговорные фразеологические конструкции, многие из них сопровождаются в лексикографических источниках пометами «груб.», «вульг.-прост.», «прост.» и пр. Вслед за О. В. Ломакиной следует подчеркнуть, что «фразеология может быть характерной чертой языковой личности» [9: 158].
«– Чего-то ворчит на тебя… Никто, говорит, его силой на трибуну не тянет , пусть, говорит, целку из себя не строит … Чего, говорит, он бегает и всем жалуется?.. Зануда, говорит, твой Глебов…» (465).
См. «… ломаться как целка груб.; строить из себя целку груб. Упорно и необоснованно (с точки зрения говорящего) отказываться от предложений или просьб (обычно предосудительных), мотивируя свой отказ моральными нормами, что осмысляется как поведение невинной девушки, не желающей вступать в сексуальные отношения, при том что отказывающийся совсем не похож на невинную девушку»3.
«Он (Левка) сам будет выступать, хотя ему тоже неловко, ведь он знает Ганчука с детства, да и некогда, голова занята не тем. Его сейчас в один вояж готовят на полгода, сидит ночами английский пилит, вон книжки валяются, словари. Но если нужно выступить, значит, нужно, старик-то маразмирует, время его давно ушло, а он не чует, хорохорится вместо того, чтобы уступить место, и не хрена тут разводить китайские церемонии , а то хороши: и на елку сесть и задницу не поцарапать …» (464).
См. « Не хрена (делать что-л.). груб. Эвф.; не хрен (делать что-л.) груб. Эвф. Указание на то, что нет причин / оснований для того, чтобы кто-либо делал что-либо, хотя кто-то придерживается противоположной точки зрения, и выражение желания предотвратить эти действия. Незачем, нечего»4.
Для дискурса персонажа характерны паремио-логические конструкции, ср.:
«Здравствуй, Дуня, Новый год. См. Здравствуй, жопа, Новый год. Вульг.-прост. Шутл.-ирон. 1. Шутливое приветствие. 2. Неодобр. О человеке, совершившем какую-л. глупость, нелепость, допустившем промах. 3. Выражение удивления, изумления. 4. Выражение резкого протеста, несогласия с чем-л. Мокиенко, Никитина 2003, 148»5.
«Хорош гусь. Прост. Неодобр. О нечестном, ненадежном человеке. ДП, 162, 471; Ф1, 131; ПОС 8,98»6.
«Разводить китайские церемонии. Разг. Шутл.-ирон. Утомительные и ненужные условности; излишнее проявление вежливости; бессмысленный этикет»7.
Каждая из данных единиц полифункциональ-на, не только служит средством характеризации языковой личности говорящего, но и выступает средством экспрессии, передает отношение говорящего к описываемому объекту, характеризует его как яркую языковую личность, стремящуюся занять лидерские позиции в коллективе. В то же время, если говорить об иерархии функций, на первый план выходит характеризующая функция фразеологизма как экспрессивной языковой единицы. Это не столько номинация явления, события, действия, сколько его оценка и характеристика. Шулепников открыто использует табуированную лексику, бравирует нарушением социальных норм [2: 16].
Для дискурса повествователя от первого лица, напротив, характерны стилистически нейтральные и книжные единицы, одиночные конструкции, маркируемые как «разговорные». Примечательно, что одной из таких единиц становится конструкция «катить бочку».
См. « Катить бочку (на кого-л.) жарг.; Катить баллон /баллоны (на кого-л.) жарг. Агрессивно предъявлять претензии (по большей части необоснованные) к кому-либо, что описывается как перемещение по направлению к субъекту тяжелого предмета, способного нанести ему физический ущерб. Обвинять, наезжать»8.
В тексте повести фразеологизм выделен графически при помощи разрядки, см.
«<...> то, что казалось тогда очевидностью и простотой, теперь открывается вдруг новому взору, виден скелет поступков, его костяной рисунок - это рисунок страха. Чего было бояться в ту пору глупоглазой юности? Невозможно понять, нельзя объяснить. Через тридцать лет ни до чего не дорыться. Но проступает скелет. Они катили бочку на Ганчука. И ничего больше. Абсолютно ничего! И был страх - совершенно ничтожный, слепой, бесформенный, как существо, рожденное в темном подполье, - страх неизвестно чего, поступить вопреки, встать наперекор. И было это так глубоко, за столькими перегородками, под такими густыми слоями, что вроде и не было ничего похожего» (452).
При анализе фрагмента необходимо отметить, что страх выступает одним из сюжетообразующих мотивов произведения, является ключевым словом, неоднократно повторяющимся и организующим текстовое пространство повести. С течением времени становится очевидной сущностная природа поступков героев. Страх выступает в роли своеобразного «скелета» этих поступков. Спустя годы рассказчик осознает истинный смысл произошедшего и подбирает для его характеристики наиболее подходящую фразеологическую единицу, принадлежащую дискурсу участников описываемых событий. И это единица разговорная, нехарактерная для его речи. Выделенный фразеологизм выполняет функцию маркирования «чужого слова», что также характерно для графически выделенных единиц в идиостиле Ю. В. Трифонова. Выделенная фразеологическая конструкция полифункциональна: эмоционально-экспрессивная функция, вербализующая чувства и эмоции говорящего, номинативная функция (означивание, определение сути явления), функция маркирования чужого слова.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило обозначить некоторые закономерности функционирования фразеологических и паремиологических единиц в художественном тексте Ю. В. Трифонова. Исследование фундировано подходом, заданным в трудах О. В. Ломакиной, отмечающей иерархичность функциональной стороны фразеологии, полифункциональность данных языковых средств, необходимость анализа функционирования фразеологических и паремиоло-гических единиц внутри контекста. Приведены существующие классификации функций фра- зеологических единиц; наблюдения, связанные с установлением зависимостей между теми функциями, которые характерны для отдельных фразеологических и паремиологических конструкций, и их принадлежностью дискурсу той или иной повествовательной категории. В ходе анализа установлено, что частотность использования фразеологических единиц варьируется в зависимости от повествовательного регистра. Наименьшая частотность отмечается в нейтральном повествовательном дискурсе, тогда как в персонажной речи разговорные фразеологические и паремиологические конструкции используются значительно активнее. Установлена корреляция между стилистической принадлежностью используемых фразеологизмов и типом повествовательного регистра: книжные фразеологические единицы чаще встречаются в дискурсе повествователя; разговорные и стилистически маркированные конструкции преобладают в речи персонажей и зачастую закрепляются за конкретными героями. В частности, на примере персонажной речи продемонстрировано, как экспрессивно окрашенные фразеологические и паремиологические конструкции становятся неотъемлемой частью языковой личности персонажа.
Фразеологические и паремиологические единицы, используемые одновременно в дискурсах разных повествовательных категорий, обеспечивают многоракурсность и многоплановость изображения событий, отражая различные позиции и оценки. Дополнительная интенсификация возможна за счет акцентуации единиц, ср. использования автором средств графического выделения (выделение разрядкой), выбор сильных текстовых позиций и пр.