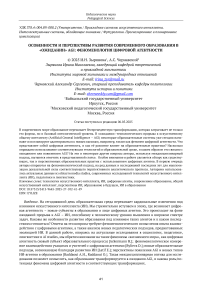Особенности и перспективы развития современного образования в «ожидании» AGI: феноменология цифровой агентности
Автор: Зырянова И.Н., Чернавский А.С.
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 3 (102) т.27, 2025 года.
Бесплатный доступ
В современном мире образование переживает беспрецедентную трансформацию, которая затрагивает не только его формы, но и базовый онтологический уровень. В «ожидании» технологического прорыва к искусственному общему интеллекту (Artificial General Intelligence – AGI) некоторые образовательные системы уже сегодня начинают или планируют адаптироваться к новым вызовам, например, таким как феномен цифровой агентности. Что представляет собой цифровая агентность, и как её развитие влияет на образовательные практики? Насколько оправдано использование соответствующих технологий в образовательной среде, и каким образом это связано с ожиданием или появлением AGI? На эти и некоторые другие вопросы авторы, используя междисциплинарный подход, пытаются ответить в представленной статье. Особое внимание в работе уделяется обзору как существующих, так и перспективных образовательных практик с использованием цифровых агентов. В первую очередь авторы опираются на феноменологический подход, на ряд данных и исследований последних лет для максимизации доказательной силы соответствующего перспективного аналитического прогноза. Авторами использовались актуальные данные из области media studies, современных исследований технологий искусственного интеллекта (ИИ), педагогики и лингвистики.
Технологии искусственного интеллекта, ИИ, цифровые агенты, современное образование, общий искусственный интеллект, перспективы ИИ, образование в будущем, ИИ в образовании
Короткий адрес: https://sciup.org/148331145
IDR: 148331145 | УДК: 378.4:004.89:008.2 | DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-102-41-49
Текст научной статьи Особенности и перспективы развития современного образования в «ожидании» AGI: феноменология цифровой агентности
EDN: EYLIZE
Введение. На сегодняшний день образовательная среда переживает кардинальные изменения под влиянием искусственного интеллекта (ИИ). Мы стремительно вступаем в эпоху, где возникает цифровая агентность – новые субъекты в образовании в лице цифровых агентов. Это происходит на фоне ожиданий прорыва к AGI – ИИ, способному к человеческому уровню мышления в широком спектре задач. Каковы же особенности развития образования под влиянием таких агентов и к каким последствиям готовиться? Ответы на эти вопросы требуют феноменологического осмысления опыта взаимодействия с цифровыми агентами, а также анализа новых педагогических подходов, продиктованных эволюцией ИИ. В данной работе, опираясь на актуальные исследования в социологии, педагогике, лингвистике и AI studies, мы обратим внимание на такие феномены «жизненного мира», как цифровая агентность (новый субъект образовательного процесса) [Ackermann H.]; феноменологическое измерение взаимодействия учащихся и учителей с цифровыми агентами [Bylieva D.]; новые образовательные подходы, возникающие благодаря развитию ИИ [Latif E.]; перспективы появления AGI и новых типов ИИ-агентов в образовании [Raddaoui A.H., Raddaoui O.]. Такая междисциплинарная оптика для исследования позволит осмыслить, как образование трансформируется в ожидании AGI, и какова роль/по-тенциал феномена цифровой агентности в соответствующих трансформациях.
История вопроса. Цифровая агентность как новый субъект образовательного процесса. Традиционно считается, что субъекты образовательного процесса – это люди: ученики, учителя, преподаватели. Однако с проникновением ИИ в образование возник феномен цифровой агентности , подразумевающий, что цифровые системы начинают обладать чертами агента – автономного участника взаимодействия. Что это означает на практике? Цифровой агент (например, учебный чат-бот или интеллектуальный репетитор) способен самостоятельно инициировать взаимодействие, анализировать ответы учащихся и адаптивно реагировать. В результате такие агенты перестают быть пассивными инструментами и превращаются в новых действующих акторов образовательной среды.
С точки зрения социологии и теории акторно-сетевых систем, такая технология приобретает черты субъекта. Например, отмечается, что современные ИИ-системы радикально смещают роль человека: цифровая акторность теперь может осуществлять действия, ранее свойственные только людям. В частности, ИИ наделяет технологию агентностью, давая ей «власть инициировать взаимодействие – быть коммуникатором наравне с другими людьми» [Johri A.]. Это ключевой момент: если компьютер может сам начать диалог с учеником, задать наводящий вопрос, предоставить обратную связь без прямой команды учителя, то, возможно, мы вправе говорить о новом акторе учебного процесса.
Примером служат виртуальные ассистенты преподавателя. Так, в Технологическом институте Джорджии был создан ИИ-помощник «Джилл Уотсон»1 для онлайн-курса: она автономно отвечала на вопросы студентов на форуме, рассылала объявления и имитировала деятельность живого ассистента преподавателя. Этот случай наглядно демонстрирует, что цифровой агент может выполнять роль учителя-наставника, масштабируя взаимодействие. Подобные интеллектуальные тьюторы и ассистенты уже используются в массовых онлайн-курсах и школьном обучении. Они становятся «третьим участником» триады ученик–учитель–цифровой ассистент. Теоретики современных педагогических практик сегодня подчеркивают, что такой агент способен усилить взаимодействие, компенсируя дефицит внимания преподавателя ко всем учащимся [Taneja K.].
Конечно, статус цифровых агентов как полноправных субъектов остается дискуссионным. Многие эксперты рассматривают их как совместных агентов (co-agents) – партнеров педагога, а не как полную замену ему2. Тем не менее, цифровая агентность уже сейчас воплощается в реальных образовательных практиках. Учителя уже сегодня сталкиваются с ситуацией, когда ИИ-алгоритм рекомендует следующий шаг обучения или оценивает ответы учащихся практически самостоятельно. Такой сдвиг требует переосмыслить педагогическую субъектность: кто теперь «ведет» обучение – человек, машина или их связка? Наше текущее исследование предлагает осмыслить ситуацию: оптимальная модель – коллаборация человека и ИИ, где каждый привносит свои сильные стороны.
Феноменологическое измерение взаимодействия с цифровыми агентами. Как воспринимается взаимодействие с ИИ-агентом самими участниками образования – учениками и преподавателями? Этот вопрос лежит в плоскости феноменологии цифровой агентности: необходимо понять, как конкретно выглядит и воспринимается опыт контакта с разумной машиной в роли учителя или ученика. Феноменологическая оптика анализа показывает, что цифровые агенты занимают двойственное положение в восприятии людей. С одной стороны, это продукты технологий, лишённые живого сознания. С другой – благодаря интерактивности и особенно владению естественным языком, они все больше воспринимаются как социальные акторы, «другие», с которыми выстраиваются квази-социальные отношения [Vnutskikh A., Komarov S.]. Яркий пример – персональные помощники и обучающие чат-боты: пользователи склонны антропоморфизировать их, приписывая им личностные черты [Li Y., Hou R., Tan R.]. Очевидно, что язык сам по себе более не является исключительной способностью человека – чат-боты и голосовые ассистенты «приобрели» язык и могут представать в образе персоналий. Таким образом, феноменологический статус цифровых агентов, по нашему мнению, оказался изменчив: они уже не просто объекты, но и не совсем люди, существуя на границе между вещью и Другим.
Это граничное положение имеет и ряд психологических эффектов. Доверяют ли учащиеся совету или оценке, которую даёт ИИ-тьютор? Недавнее эмпирическое исследование в Швейцарии верифицировало, как студенты воспринимают обратную связь, не зная, что её источник – ИИ, и как меняется их мнение после раскрытия источника [Nazaretsky T.]. Результаты были показательными: до раскрытия авторства студенты оценивали качество и дружелюбие полученных комментариев примерно одинаково, независимо от того, пришли они от человека или от ИИ. Но после того как студентам сообщили, что часть отзывов сгенерирована ИИ, их отношение резко изменилось. Они стали недооценивать ценность отзывов от ИИ и, наоборот, придавать больше значения отзывам, исходящим от человека. Иными словами, как оказалось, феномен доверия сильно зависит от осознания «чуждости» агента. Очевидно, что это имеет прямые последствия: если ученик не доверяет рекомендации, он с меньшей вероятностью последует ей, что потенциально снижает эффективность обучения.
Во-вторых, оказывается важен эффект и эмоционального отклика. Эксперименты с ИИ-агентами показывают, что физическая форма (например, роботизированное тело или аватар) повышает вовлечение учащихся. Уже кратко упоминавшееся недавнее исследование выявило, что ученик может получать больше удовольствия от выполнения задания, если обучающий агент представлен в виде «дружелюбного робота», а не просто текстового персонажа на экране. В данном исследовании старшеклассники работали с системой Betty’s Brain – обучающим агентом, представленным либо только на экране, либо на экране и как физический робот рядом. Присутствие робота увеличило начальное увлечение, хотя и не улучшило непосредственно результативность решения задач [Ackermann H.]. Данный феноменологический нюанс подчеркивает, что внешний облик и социальные сигналы агента влияют на опыт взаимодействия, создавая эффект присутствия.
Методы исследования. В представленной работе авторами использованы исторический, феноменологический, аксиологический и педагогический (системно-деятельностный) подходы. Исторический подход позволил обобщить некоторые значимые положения в контексте заявленной темы. Феноменологический подход заявил важное измерение и исследовательскую оптику на современную ситуацию в образовании, с использованием технологий ИИ. Аксиологический подход в данной работе использовался для оценивания перспектив и рисков использования алгоритмов ИИ в современную эпоху ожидания AGI. Системно-деятельностный подход позволил оценить текущее состояние и перспективы образования, рассматривая ИИ-агента как часть учебной деятельности, участвующую в решении дидактических и мотивационных задач. Особое внимание уделено коллаборации человека и ИИ, трансформации ролей педагога и ученика. Лингвистический анализ цифрового дискурса выявил особенности речевой субъектности ИИ, стилистическую адаптивность и прагматические стратегии, отражающие стремление к соответствию нормам человеческой коммуникации и влияющие на восприятие ИИ как полноправного участника образовательного процесса.
Результаты исследования. Новые образовательные подходы, обусловленные эволюцией ИИ. Стремительное развитие ИИ ведёт не только к появлению новых инструментов, но и к трансформации педагогических подходов. Каким образом эволюция ИИ меняет методы и организацию обучения? Возможно, одно из самых ощутимых и перспективных влияний ИИ – все более реальная возможность реализовать мечту о подлинно персонализированном обучении. Традиционный класс часто вынужден выравниваться под «средней уровень» слушателей, тогда как интеллектуальные обучающие системы (Intelligent Tutoring Systems, ITS) наделяют каждого ученика персональным «наставником». Например, система Squirrel AI в Китае строит индивидуальные траектории: вопросы и задания автоматически усложняются или упрощаются в зависимости от ответов ученика. По данным разработчиков, такая персонализация позволила повысить точность ответов студентов с 78% до 93% за счет гибких учебных путей3. Мета-анализ Ван Лена показал еще в 2011 г., что ITS почти так же эффективны, как индивидуальное человеческое репетиторство, а другие, более свежие, обзоры отмечают, что студенты с ITS успевают лучше, чем при обычном классе или самостоятельном выполнении домашних заданий [Son T.]. Эволюция ИИ сегодня тесно переплетается с развитием феномена Learning Analytics – анализа больших образовательных данных. Новые подходы основываются на том, что каждое действие уче-ника/слушателя в цифровой среде оставляет след (ответы на тесты, время выполнения заданий, паттерны ошибок и т. д.). Алгоритмы ИИ сегодня способны выявлять сложные паттерны освоения знаний – и появляется возможность прогнозировать соответствующие затруднения. В результате появляется возможность проактивных педагогических наблюдений/интервенций: система сигнализирует учителю, что, например, конкретный ученик начал испытывать трудности с темой еще до того, как он сам осознает проблему. Это очевидным образом меняет роль оценки успеваемости – от ретроспективной к предиктивной. Прямо сегодня происходит смещение акцента на данные в реальном времени: обучение становится более управляемым на основе фактов и математических моделей, а не интуиции. При этом, говоря о специфике новых компетенций, отметим: «Содержание цифровой компетентности представлено такой совокупностью компетенций, которая позволяет субъекту профессиональной деятельности работать с цифровыми продуктами в цифровойсреде. Структура представлена когнитивным, эмоциональным и поведенческим компонентами. Когнитивный компонент представлен знаниями основных программ, необходимых субъекту деятельности организовывать ее в условиях цифрового профессионального пространства, а также пониманием целесообразности их использования в зависимости от ситуации» [Иванова С.В., c. 29].
ИИ также стимулирует появление ранее невозможных форм обучения. Одна из них – обучение через обучение другого (Learning by Teaching), но «Другим» в данном случае выступает ИИ-агент. В системе Betty’s Brain, упомянутой ранее, ученик сам учит виртуального агента Бетти решению задач, исправляет её ошибки, тем самым глубже понимая предмет. Этот подход опирается на педагогический эффект «Docendo discimus» ( обучая другого, учишься сам) и усиливает его за счёт всегда готового учиться цифрового «ученика».
Учебные задачи всё чаще выполняются в соавторстве с цифровыми агентами, формируя «распределённую агентность» между учащимися и алгоритмами [Siddiq F.]. Например, ряд рутинных когнитивных функций может быть в ближайшее время делегирован ИИ-ассистентам. В результате роль преподавателя эволюционирует от транслятора знаний к «фасилитатору» взаимодействия человека и ИИ, соединяющему машинные инсайты с человеческим суждением. По мнению ряда экспертов, «будет меньше тьюторов, но больше коучей», поскольку типичные деятельностные задачи наставников (например, подбор упражнений или объяснение типовых решений) всё в большей мере автоматизи-руются4. Так, например, в курсе по академическому письму студентов просят сгенерировать черновики эссе с помощью чат-бота, а затем совместно доработать текст, улучшая его оригинальность и ка-чество5.
Представляется, что в текущих условиях возрождается и интерес к устным формам проверки знаний и наблюдаемым в реальном времени видам оценки. Если ИИ может написать за учащегося эссе, то, к примеру, защита работы в формате устного экзамена или презентации перед комиссией вновь приобретает особую ценность. В эпоху AGI, вероятно, усложнятся и расширятся практики устных коллоквиумов, проектных защит, портфолио-комиссий и других форм оценки, где результат генерируется в реальном времени студентом+ИИ. Кроме того, в оценивание внедряются и метакогнитивные компоненты – и здесь уместным представляется просьба к учащимся отрефлексировать, как они использовали ИИ при подготовке, какие сложности возникли и т. п. Такой метауровень позволит отличить продуманное учебное взаимодействие с ИИ от простого перепоручения когнитивной работы машине.
Это уже сегодня ведёт к эпистемологической перестройке: трансформируются способы создания, распространения и валидации знания. Генеративные модели уже сейчас могут порождать новые тексты, решения и даже новые гипотезы знания, что бросает вызов традиционным механизмам академической экспертизы и рецензирования. Как отмечают некоторые современные исследователи, появление генеративных ИИ-технологий знаменует сдвиг, сравнимый с изобретением печати или письма, фундаментально меняя то, как знание производится и проверяется в образовании [Henriksen D.]. Наконец трансформация образовательного пространства связана и с некоторыми политико-экономическими вопросами. Если ключевые носители знаний не только университеты, но и частные технологи- ческие корпорации, возникает вопрос: кто владеет и управляет знанием? Отметим, что в случае смещения образовательных активностей на исключительно коммерческие платформы существует риск, что знание станет преимущественно товаром, а не общественным благом.
И наконец, эволюция ИИ способствует расширению доступа к образованию. Это особенно перспективно для регионов с нехваткой квалифицированных педагогов: ИИ-тьютор, настроенный на локальный язык, способен донести базовые знания слушателям, ранее имевшим весьма ограниченный доступ к качественному образованию. В краткосрочной перспективе такая «революционная эволюция» снижает значимые барьеры неравенства. Также ИИ, учитывая новые интерактивные возможности больших языковых моделей (БЯМ), облегчает инклюзивное обучение, поскольку адаптивные технологии интерфейсов (в первую очередь голосовых) подстраивают материал под их возможности.
Лингвистические вызовы в условиях цифровой трансформации. Современная лингвистика неизбежно вступает в диалог с теми изменениями, которые происходят в образовательной среде под влиянием технологий искусственного интеллекта. Один из ключевых векторов трансформации — смещение языковой парадигмы: язык перестаёт быть исключительно человеческим достоянием. Генеративные языковые модели демонстрируют высокую синтаксическую, семантическую и стилистическую гибкость, имитируя разнообразные регистры, жанры и коммуникативные роли. Это ставит перед лингвистикой фундаментальный вопрос: может ли ИИ рассматриваться как полноценный языковой субъект?
Наиболее ярко это проявляется в сфере языкового образования [Larsari V.N.], где взаимодействие с ИИ включает диалоги, интерпретацию текстов, перевод, стилистические рекомендации и генерацию заданий. В связи с этим меняется и роль преподавателя: он становится медиатором между студентом и цифровым агентом, фасилитируя гибридное взаимодействие [Impedovo M.A., Tan S.C.].
Формируется новая модель лингвистической субъектности: от бинарной схемы «ученик – учитель» к триадной, где ИИ — третий, условно равноправный участник коммуникации. Такой «третий голос» влияет на нормы и модели речевого поведения. Это приводит к актуализации проблем цифровой прагматики [Садулаева З.М.]: лишённый невербальных и интонационных средств, ИИ компенсирует это лингвистическими стратегиями — смягчителями, эмодзи, обращением по имени, стилистической маркировкой. Необходим системный анализ таких форм речевого поведения, включая стратегии вежливости, иронии и адаптации к собеседнику [ Titova S.V., Temuryan K.T.].
В прикладной лингвистике возникает задача адаптации ИИ к возрастным, культурным и профессиональным особенностям обучающихся. Требуется создание многоуровневых моделей стилистической настройки, учитывающих не только языковую подготовку, но и психолингвистическое восприятие речи.
На этом фоне набирает силу концепция постгуманистической лингвистики [Зырянова И.Н., Чер-навский А.С.], где язык понимается как гибридная система, реализуемая в человеке и машине. Возникает новое направление — интеракционная лингвистика цифрового происхождения, изучающая речевое взаимодействие в чатах, симуляциях и ИИ-интерфейсах. Это требует адаптации традиционных методик и разработки новых понятий для описания языкового поведения искусственного собеседника.
Таким образом, цифровая трансформация образования требует переосмысления самой сути языкового обучения [Шамшович В.Ф.]: акцент смещается с овладения «нативным» языком на способность функционировать в гибридных форматах — от взаимодействия с ИИ до соавторства. Лингвистика должна заново осмыслить понятия языкового субъекта, прагматики и дискурса в условиях ИИ-посредничества.
Перспективы AGI и новых типов ИИ-агентов в образовательной среде. На горизонте образовательных преобразований появился весьма радикальный фактор – AGI. В то время как нынешние системы – это узкие ИИ (ANI), выполняющие ограниченные задачи (пусть иногда и очень хорошо), AGI подразумевает универсальный интеллект с человеческим уровнем гибкости и понимания. Более того, по сути мы подразумеваем когнитивные способности AGI, превосходящие большинство людей. Одно из базовых определений AGI последнего времени операционализирует это понятие как «отражение общей вариативности характеристик искусственных систем» [Gignac G.E., Szodorai E.T.]. Какие перспективы открывает (или несет угрозы) AGI для образования, и к каким новым типам ИИ-агентов нам готовиться? Прежде всего некоторые эксперты сходятся во мнении, что AGI способен «взорвать» устоявшиеся рамки и стандарты обучения6. Ожидается, что появление ИИ, который сможет «думать» не хуже, чем человек, кардинально трансформирует роль учителя и ученика. Например, AGI-тьютор теоретически сможет объяснить абсолютно любой предмет на любом человеческом уровне – от азов грамоты до квантовой физики – подстраиваясь под особенности конкретного учащегося так же вариативно, как это сделал бы опытный педагог (а вполне возможно, и лучше, ведь AGI сумеет мгновенно проанализировать весь объем данных об ученике). Это дает надежду на беспрецедентную индивидуализацию: каждый учащийся получает сверхквалифицированного наставника, знающего всё и умеющего обучать оптимальным для данного человека способом [Latif E.].
Пожалуй, одна из оптимистических точек зрения на будущее появление AGI пока сводится к тому, что, если ИИ сможет делать практически всё, что касается передачи знаний и стандартного оценивания, человеческому компоненту останутся области, связанные с этикой, эмоциональным интеллектом и генерацией новых смыслов. Перспективы AGI вызывают не только энтузиазм, но и основательные опасения. Международные организации уже сейчас задумываются об этом: ЮНЕСКО, например, подчеркивает важность сохранения человеческой агентности/субъектности в мире автоматизации, настаивая, что ИИ должен дополнять, а не подменять человека7.
Выводы. Эпоха цифровой агентности в образовании уже наступила, а в перспективе появления AGI она, вероятно, достигнет своего апогея. В настоящем исследовании мы рассмотрели особенности этого процесса через призму феноменологии, педагогики, лингвистики и AGI-инноваций. Цифровые агенты – от чат-ботов до интеллектуальных тьюторов – закрепляются как новые субъекты учебного процесса, трансформируя традиционную диаду «учитель–ученик» в более сложную систему взаимодействий. Феноменологически взаимодействие с такими агентами оказывается неоднозначным: учащиеся и преподаватели ощущают как улучшение персонального опыта (постоянная поддержка, адаптивность, эффект присутствия), так и когнитивный диссонанс – осознание искусственной природы партнёра, которое может вызывать недоверие или эмоциональную неполноту контакта. Эволюция ИИ уже принесла в образование новые подходы: персонализация обучения на основе данных, перемещение учителя в роль наставника-методиста/фасилитатора, обучение через взаимодействия с ИИ и совместное творчество человека и алгоритма. Следовательно, перед нами стоит беспрецедентная и фундаментальная задача – максимизировать потенциал ИИ, минимизируя сопутствующие риски. Это, как сегодня авторам представляется очевидным, требует трансдисциплинарного подхода: IT-специалисты в области технологий ИИ должны работать совместно с педагогами, психологами, социологами и лингвистами при внедрении соответствующих ИИ-решений. В ожидании AGI системы образования сегодня находятся в весьма сложном положении: с одной стороны, нужно учесть будущие возможности и заранее адаптироваться (развивая навыки XXI в. у учащихся, готовя учителей к сотрудничеству с умными машинами), с другой – нельзя предсказать всех последствий появления AGI.
Подводя итог, следует отметить: современное образование на пороге эры AGI – это динамично развивающаяся система, где человек и ИИ учатся сосуществовать и сотрудничать. Между тем, вероятно, «это влечет за собой зарождение новых постгуманистических, «постчеловеческих» концепций существования и употребления языка и дискурсивных практик в разных сферах общественной жизни» [Зырянова И. Н., c. 145]. Главная цель на текущий момент – сделать так, чтобы эти новые технологии не отчуждали, а усиливали человеческий потенциал. В конечном счете образование всегда было и, вероятно, останется деятельностью, направленной на раскрытие возможностей личности – и если цифровые агенты и грядущий AGI помогут нам в этом, они станут ценным дополнением к большой образовательной экосистеме, не умаляя роли человека, а открывая перед ним новые горизонты.