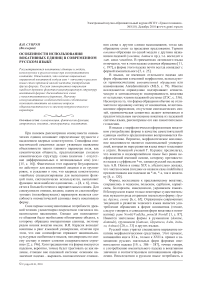Особенности использования вокативных единиц в современном русском языке
Автор: Супрун Василий Иванович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Лингводидактические основы формирования профессиональной компетентности учителя зарубежной школы
Статья в выпуске: 5 (10), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вокативные единицы и модели, используемые в русском языке при коммуникативном контакте. Отмечается, что наличие национально окрашенной вокативной модели имя + отчество в русском языке стало причиной низкой частоты употребления других формул. Русская гипокористика отражает наиболее древнюю фонетико-акцентуационную структуру вокативной формы: бисиллабическое слово с пенультимативным ударением. Изучение коммуникативных особенностей имен собственных позволяет ответить на важные вопросы общелингвистического и лингвокультурологического характера.
Коммуникация, фатическая функция, антропоним, вокатив, гипокористика, квалитатив
Короткий адрес: https://sciup.org/14821605
IDR: 14821605
Текст научной статьи Особенности использования вокативных единиц в современном русском языке
При полевом рассмотрении совокупности оними-ческих единиц возникают определенные трудности с выделением ядерных конституентов. Специфика ономастической семантики делает уязвимым выявление объективности такого главного параметра поля, как семантическая общность, предполагающая сходную семантическую структуру слова (наличие / отсутствие дифференциальных и потенциальных сем) (см.: [15, с. 16]). Фактически этот параметр безукоризненно действует для апеллятивной лексики и ее группировок, и суждения о том, что ядерные конституенты «наиболее специализированы для выполнения функций поля, систематически используются, выполняют функцию поля наиболее однозначно…» [8, с. 6], относятся в большей степени к нарицательным словам. Для совокупности онимов, видимо, одним из системообразующих (полеобразующих) параметров является способность ономастической единицы иметь вокативную форму.
Свои первые коммуникативные потребности древний человек удовлетворял посредством глаголов в повелительном наклонении. Однако для полноценного общения было необходимо обозначение объекта, к которому обращена императивная единица, поэтому рядом возник вокатив имени. В.И. Карасик возводит вокативы в ранг языковой универсалии, отмечая при этом, что они «специфично отражают национальнокультурные особенности языков, неоднородны по своему составу и имеют сложное содержательное строение» [2, с. 196]. Хотя традиционно эта форма именуется падежом, вероятно, точнее будет трактовать ее как явление, стоящее вне падежной системы: основное назначение падежа – выражать синтаксические отноше- ния слова к другим словам высказывания, тогда как обращение стоит за пределами предложения. Термин вокатив образован по одной модели с другими названиями падежей (генетив, датив и пр.), т.е. восходит к лат. casus vocativus. В грамматиках латинского языка отмечается, что в этом падеже ставится обращение [11, с. 197], а форма этого падежа почти всегда совпадает с формой именительного [5, с. 25].
В языках, не имеющих отдельного падежа для форм обращения в именной морфологии, используются терминосочетание именительный обращения или наименование Anredenominativ (MLS, с. 79). Многие исследователи справедливо подчеркивают семантическую и синтаксическую изолированность вокатива от остальных членов падежной системы (ЛЭС, с. 356). Несмотря на то, что форма обращения обычно не отличается по звуковому составу от номинатива, ее интонационное оформление, отсутствие синтаксических связей, грамматическая семантика делают возможным и предпочтительным вычленение вокатива из падежной системы языка, рассмотрение его как самостоятельного явления.
В языках с морфологически оформленным вокативом употребление формы в качестве самостоятельной единицы особого предназначения воспринимается более отчетливо. Вероятно, морфологическое воплощение вокативности является палеоязыковой универсалией, которая по мере развития языка имеет тенденцию к утрате. Немецкий ученый Г. Курциус предполагал, что вокатив в индоевропейском языке был равен неоформленной именной основе, которому противостоял падеж с суффиксом *-m, однако русский исследователь А.В. Попов в конце XIX в. убедительно доказал, что чистая основа (позднее ее назвали casus indefinitus) предшествовала как падежам на *-m, *-s, так и вокативу [4, с. 120].
Формы, восходящие к праславянскому вокативу, сохранились в чешском, польском, сербском, хорватском, болгарском, македонском, украинском языках. В белорусском языке только некоторые существительные мужского рода сохранили звательную форму: бра-це, дружа, сынку [6, с. 65]. Отражением современных тенденций в развитии чешского языка является употребление обращения в форме номинатива (точнее, следует говорить о совпадении форм вокатива и номинатива): pane Novάk/Vodička, poručik Novάk ! [1, с. 87]. Имеются звательные формы в румынском ( domine, domnule ), грузинском ( батоно, Церетело, дэди, дэди-ло, дэдико ) [20, с. 33] и других языках.
Русский язык утратил специальное выражение вокатива морфологическими средствами. Этот процесс, начавшийся еще в XI в., только к XVII в. привел к замещению русских звательных форм формами именительного падежа [19, с. 386 – 387], точнее говоря, к употреблению именительного падежа в вокативном значении и соответствующем интонационном оформлении. Впоследствии в русском языке потребность в отделении вокатива от номинатива и фонетические особенности обращения привели к появлению усеченных разговорных форм обращения у слов 1-го склонения (мам, пап, Вань) (ГРЯ, с. 127), их называют вока-тивными формами (ЛЭС, с. 356).
В диалектной речи для обращения используются также формы некоторых слов с наращением доча, сына , что тоже можно рассматривать как проявление тенденции разведения двух падежей, хотя нельзя не увидеть и стремления к использованию вокативной бисиллабической формулы (см. ниже). В последнем вокативе отмечается даже изменение рода, вероятно, обусловленное флексией: Моя сына, ты верно гута-ришь, было (Б. Екимов. Подарок) . Но при использовании слова в качестве номинатива отмечается сохранение родо-гендерных отношений: Э-э-э-э, – пропела мать, будто уплывая далеко-далеко, – сына мой не видит ничего (М.А. Тарковский. Ложка супа) .
Как застывшие формы используются вокативы некоторых слов Боже, Господи, владыко, старче, сынку , обычно восходящие к прецендентным текстам на церковнославянском языке. Достаточно регулярно в публицистических текстах происходит гиперкорректное употребление звательной формы слова владыка в качестве номинатива: владыко сказал . Для трансцендентного общения используются в звательной форме именования Господа, Богородицы, имена святых, включенные в тексты молитв, акафистов, песнопений, созданные на церковнославянском языке, однако бытующие в русской этноязыковой среде: Царю Небесный, Утешителю; Богородице, Дево, радуйся; Преподобне Отче Серафиме, моли Бога о нас, Велико-мучениче и целителю Пантелеимоне.
К экстралингвистическим факторам вока-тивного употребления антропонимов относятся этнокультурно-исторические традиции, обусловливающие выбор форм обращения. Европейская коммуникация строго разграничивает официальную и неофициальную сферы общения, распределяя между ними личные и фамильные имена. В официальном обращении в качестве вокативной единицы используется апеллятивно-антропонимическая формула нем. Herr Hengst, Frau Jahn , англ. mister Smith, missis Smith , фр. monsier Durand, madame Bovary , чеш. pane Novάku, panί Novakovά etc. Личные имена, их гипокористиче-ские и оценочные формы употребляются при неофициальном общении: англ. Robert, Bob , нем. Johann, Hans , чеш. Josefe, Pepίku etc.
В последнее время в Европе начинает распространяться американская модель обращения к коллеге с помощью гикокористической формы имени, которая приводит к нулевому вокативу, к ситуации, описанной В.И. Карасиком: если у собеседников большая разница в возрасте, то старший обращается к младшему коллеге по имени, а младший вынужден отказываться от использования обращения, т.к. обратиться по имени некорректно, учитывая разницу в возрасте, а ис- пользование социального вокатива или апеллятивно-антропонимической формулы может быть истолковано как отрицательное отношение к собеседнику [2, с. 206].
Наличие национально окрашенной вокативной модели имя + отчество в русском языке стало причиной низкой частоты употребления формулы господин + + фамилия при обращении [15, с. 67], которая в некоторых социальных группах вызывает эффект отчуждения или даже (как результат социального расслоения общества и сохранения идей коммунистического равенства) имеет пейоративный оттенок [3, с. 130 – 131]. Модель товарищ + фамилия оценивается отрицательно другими социальными группами, воспринимается в обществе как политически окрашенное обращение, свидетельствующее о принадлежности адресанта к коммунистической партии. Однако вокативы товарищ капитан, товарищ генерал сохраняется в российской армии в качестве уставного обращения.
Отсутствие устойчивого употребления нейтральных статусных обращений приводит к тому, что в русском узусе не закрепляется предлагаемый многими писателями, журналистами, филологами вокатив су-дарь/сударыня , который не может преодолеть сопротивления коммуникантов и вытеснить стремительно набравшее частотность обращение мужчина/женщи-на , уходящий вокатив молодой человек/девушка (его сокращение в употреблении вызвано часто встречающимся несоответствием обращения возрасту адресата, что многократно осмеяно в юмористических произведениях) и официальное (судебное) обращение граж-данин/гражданка/граждане . Гендерные особенности коммуникации отражаются в использовании вокатива дама при нулевой единице для равноценного обращения к мужчине.
Функционирование русской вежливой модели имя + + отчество приводит также к тому, что в ситуации, когда адресант не знает или забыл эти антропонимические единицы, он вынужден прибегать к нулевому вокативу, поскольку любое иное обращение может быть воспринято как ирония или недоброжелательность ( госпожа Иванова, господин ректор ). Как выход из сложившегося положения узус определил этикетную форму: Простите, я забыл Ваше (имя и) отчество .
В современном русском речевом этикете используются ряд прагматических клише [1], заменяющих вокатив (сопровождающих нулевой вокатив) при обращении к незнакомому человеку: Простите, не скажете ли, где находится…; Извините, не могли бы Вы сказать…; Будьте любезны, подскажите, который час... В последнем клише глагол подсказать употребляется с семантическим сдвигом, что вызывает возражения у носителей языка с обостренным восприятием лексической семантики.
Выражая уважительность, являясь нормативной этикетной формой, обращение, состоящее из имени и отчества, нарушает фонетические закономерности во- кативных структур, поэтому подвергается преобразованиям, чаще всего синкопированию: Пал Палыч, Марь Иванна, Дарь Николавна. Синкопирование может также сопровождаться аферезисом: Сан Саныч. Эти формы могут использоваться и в номинативе, однако их возникновение следует отнести к вокативу. Писатели XIX в. использовали в своих произведениях в основном синкопированные формы отчеств (Иван Евсеич и Яков Васильич в «Лошадиной фамилии» А.П. Чехова и мн. др.) [15, с. 147].
Нормативный характер русской этикетной формы заставляет представителей других народов прибегать к образованию отчеств с целью употребления при общении вокативной модели имя + отчество , иногда для удобства вокативного использования происходит полная замена антропонимов: Все, кто знал этого человека, звали его Николаем Ивановичем. А по паспорту Хайдар Арифулович Мангушев (А. Мурашов. Добрая память).
Распространенной моделью вокатива в общении детей и лиц младшего возраста при обращении к взрослым родственникам является формула дядя/тетя, бабушка (баба)/дедушка (деда) + гипокористический антропоним . В некоторых случаях это обращение может быть адресовано друзьям семьи, хорошим знакомым. При невокативном использовании в отсутствии носителя имени словосочетание может приобрести ироническую окраску или негативную коннотацию: Опять баба Маша всем двойки влепила . В данном случае апеллятивно-антропонимический комплекс сближается по своим характеристикам с «заглазным» прозвищем.
Обращение по одиночному имени в русском узусе указывает на равенство социальных ролей коммуникантов, равный возраст и довольно высокую степень близости отношений. При этом полная форма имени может свидетельствовать о серьезности разговора, натянутости отношений, придает коммуникации официальность. Это же относится и к другим славянским языкам: – Ярослав! – обратился он (начальник) ко мне. У меня сразу кольнуло под ложечкой. Обычно он называл меня Ярда или Яроушек. Когда же я ухитрялся провиниться, он обращался ко мне либо по званию – товарищ майор, либо по фамилии – товарищ Блажек. За те двадцать лет, что я с ним вместе служил, Ярославом он назвал меня всего лишь дважды. И оба раза тогда дело принимало серьезный оборот (Т. Ржезач. Пациент доктора Пааралбакка).
Гипокористическаяи деминутивно-мелиоративные вокативные формы антропонима выбираются в дружеской среде, а также при обращении старшего к младшему. Существуют личные и семейные предпочтения в выборе деривата: Маша, но не Маня, Дима, но не Митя, Саша, но не Шура, Мила, но не Люда, Люда, но не Люся, Виталий, а не Виталя и пр. Например: И так не отличающийся особой ласковостью и людимостью, задичал, словно перелетовавший волчонок, Митя, как повелел он звать себя отныне, потому как имя Дима ему насмерть разнравилось (Е.А. Кулькин. Прощеный век).
Предположение А.К. Поливановой о социальной распределенности кратких и деминутивных образований ( Николенька – у дворян, Коля, Колюн – в простонародье) [10, с. 27], видимо, относится к языку XIX в. и применимо при анализе языка классической русской литературы. Однако в целом проблема социальной обусловленности антропонимического гипокори-стического и экспрессивного образования сохраняется и нуждается в изучении (ср. формы Вован, Колян в среде «новых русских» с криминальным прошлым). Употребление краткого или ласкательного имени по отношении к старшему или малознакомому человеку чаще всего придает вокативу отрицательную коннотацию.
Русская гипокористика, вероятно, отражает наиболее древнюю фонетико-акцентуационную структуру вокативной формы. Подавляющее большинство кратких (домашних) форм русских имен состоит из двух слогов, употребление трехсложных имен определяется историческими причинами ( Володя ) или традицией ( Наташа ). При этом односложные мужские имена получают дополнительный слог: Лев – Лева, Марк – Марик . Е.Д. Поливанов называет процесс образование ги-покористических имен типа Шура < Сашура < Саша < < Алексаша < Александр, Нюра < Анюра < Аня < Анна слоговой абсорбцией (Там же, с. 77).
Наследуют древнюю фонетическую структуру русские гипокористические формы с повторяющимися слогами, восходящие к детскому (лепетному) языку: Тата < Наталья, Тамара, Татьяна, Вава < Варвара (так звали, например, в семье Варвару Дмитриевну Костомарову (Костомаров), а также Валерия, Вавила, Вадим, Варфоломей, Кока < Николай, Ляля < Елена, Леля < Ольга, Вова (< Володя) < Владимир, Дода < Евдокия, Наня < Ананий и др. [13, с. 105 – 116].
Фактически все гипокористические имена имеют ударение на предпоследнем слоге (исключения составляют только односложные гипокористики типа Стас, Макс ) [13, с. 138]. Тем самым мы можем вывести формулу русского вокативного имени: бисиллабическое слово с пенультимативным ударением. По данным Л. Хайнемена, только 18% современных языков имеет ударение на предпоследнем слоге (см.: (ЛЭС, с. 24)). Из славянских языков пенультимативную акцентуацию имеет только польский. Следует продолжить изучение отражение в русском гипокористическом имени древних фонетико-акцентуационных закономерностей.
Отметим, что основное назначение гипокористики – обращение, выражение фатической функции. Образование кратких форм антропонима является лингвистической фреквенталией (если не универсалией) [12], в славянских языках они фиксируются с 789 г. [13, с. 98].
Богатым набором средств обладает антропонимическое словообразование: здесь и регулярно упо- требляемые деминутивно-мелиоративные суффиксы -очка/-ечка, -онька/-енька, -уша/-юша, -ушка/-юшка, -ик, -ок/-ек, и более ограниченные в употреблении форманты -уня/-юня, -уля/-юля, -уся/-юся, -чик, и суффиксы диалектного происхождения -ура/-юра, -ута/-юта, -аха, -ака, и форманты с различной степенью аугментативности/пейоративности -уха/-юха, -ан/-ян, -ка и т.д. Живое вокативное употребление изменяет оценочные параметры антропонимических дериватов. Л.Л. Федорова отмечает, что формы с суффиксом -ка могут расцениваться как знак солидарности, а антропонимы с формантами -ечка, -енька – как знак отчуждения [18, с. 31].
В семейной и дружеской среде могут возникать нерегулярные формы гипокористических и демину-тивных форм имени, использующиеся чаще всего во-кативно. Известно, например, что Евгения Боратынского в семье звали Бубенька (А. Гомазков, О. Гомазков «… Песнопенья, где отразилась жизнь моя»). Владимира Ивановича Короткова, архитектора из Ленинграда, друзья звали Димой (Я. Голованов. Заметки вашего современника), теоретически эта гипокористика возможна от имени Владимир (а также от имен Вадим, Будимир, Геодим, Никодим, Радим ; см. подробнее главу «Имя по-домашнему» в нашей книге об именах [13, с. 98 – 115]), однако узус закрепил эту гипокористи-ческую форму за полным именем Дмитрий . С.А. Есенин называл Айседору Дункан Дусей: Дуся, сигарет! Дуся, шампанского (И. Мастыкина. Любовь, похожая на стон). Могут возникать загадочные вокативно-ономастические ситуации: … Видимо, сторожу принадлежащий голос: Тпенька, это ты? Миловзоров чуть отник от оградки. Подумал: «Как же имя человека, ежели его могут кликать – Тпенька? (Е.А. Куль-кин. Прощеный век).
Широкую палитру оценочности (от положительной и ласкательной до насмешливой и негативной) несут в себе антропонимические комплексы из гипоко-ристического антропонима и отчества. Разумеется, при общении чаще реализуются позитивные оттенки коннотации. Существуют гендерные предпочтения: женщинам подобные вокативы адресуются значительно чаще, чем мужчинам: Ниночка Петровна, Даша Николаевна, Аллочка Сергеевна и др. Впрочем, гипокори-стические и позитивные оценочные дериваты в целом более употребительны при коммуникации женщин.
В диалектной и просторечной русской речевой среде используется обращение по изолированному отчеству, что также является национально окрашенным вокативом, хотя и прослеживаются определенные параллели с восточными именованиями лиц и обращениями к ним; мы знаем многих арабских ученых и писателей только по отчествам: Ибн Сина (Авиценна), Ибн Рушд (Аверроэс), Ибн Фадлан, Ибн Аль-Хайсам (Альга-зен), Ибн Аль-Араби и мн. др. (БЭС, с. 430).
Возможно, на изолированное использование отчества в качестве вокатива оказали влияние фонетиче- ские закономерности модели обращения, при этом – в отличие от гипокористики – отмечается тенденция к употреблению трехслогового антропонима: Иваныч, Петрович, Василич, Андревна, Васильна. Н.В. Подольская называет использование изолированного отчества эллиптированием (не связывая его с вокативом) [7, с. 49]. В разговорно-просторечном употреблении могут появиться формы отчества с мелиоративными суффиксами: Гордевны нет… Нет нашей Гордевнушки… (Б.П. Екимов. Высшая мера).
Обращение по фамилии характерно для официальной коммуникации, однако без сопровождающих слов может быть оценено как невежливое: Демьянович, зайдите в кабинет! В школьной среде закрепилось во-кативное использование фамилии при вызове ученика учителем: Ефремов, к доске! Возможно, на эту традицию оказало воздействие сокращение активного имен-ника, появление в классе большого количества тезок. Ср. юмореску-анекдот 1970 – 1980-х гг.: У вас кто родился: девочка или Сережа (вариант: мальчик или Леночка )? Эта школьная модель иногда сохраняется и в дружеской (чаще в интергендерной коммуникации) и даже семейной среде: Смирнов, сегодня твоя очередь мыть посуду.
Диалектная речь также характеризуется вокатив-ным использованием андронимов – именований жены по имени или прозвищу мужа (Там же). Для последнего времени более характерно возникновение андрони-мов на базе фамилии супруга: Супруниха, Гаврилючка .
В арготической, жаргонной, сленговой речи при обращении регулярно используются прозвища. При этом в качестве вокативов выступают только принимаемые адресатом антропонимы, а «заглазные» прозвища употребляются в аффектированной речи наряду с другими пейоративами. Криминализация общества, повышение социального престижа криминальных авторитетов, воспевание «романтики» уголовной среды приводит к распространению арготической вокатив-ной модели в повседневном общении: Обращаются здесь, как в зоне, исключительно по кличкам: Француз, Лысый, Хромой… (С. Рубцов. Чужой фарт: Письмо из Горной Шории). Употребление в качестве обращения псевдонимов мало отличается от аналогичного использования фамилий.
Помимо вокативного употребления в коммуникации антропонимы занимают различные позиции в предложении в нарративном контексте (диалоге), соотносясь при этом с нарицательными словами, с которыми составляют (так же, как с местоимениями и нулевым употреблением обозначения человека) единую парадигматическую ось текста: Александр Иванович Козулин, ветфельдшер Козулин, Козулин, товарищ Козулин, фельдшер, он, кто-то, вот этот-то человек и т.п. [14].
Антропонимы используются очень широко, без них полноценное общение невозможно. Изучение коммуникативных особенностей имен собственных позво- ляет ответить на важные вопросы общелингвистического и лингвокультурологического характера.
Имеется некоторое число ситуаций, когда фатиче-ская функция реализуется без использования антропонимов. Чаще всего при этом употребляются вокативы-квалитативы, которые могут иметь положительную и отрицательную аксиологическую нацеленность. Позитивные квалитативы могут быть представлены адъективными единицами. Положительные оценочные обращения возможны при интимном общении: милая, родной, нежная. Они могут сопровождаться притяжательным местоимением мой/моя.
Используются также различные метафоры: рыбка, киска, лапка, ласточка. Эти интимные вокативы становятся основой анекдотов и анекдотических ситуаций: Женщины менялись в жизни Володьки, словно стекляшки в калейдоскопе. Я даже не пыталась запомнить их имен. Впрочем, хитрый Вовка, чтобы самому не запутаться, изворотливо называл всех своих обоже «киска» (Д. Донцова. Камасутра для Микки-Мауса). Возникают комплексы положительных вокативов: Милая моя, / Солнышко лесное, / Где, в каких краях / Встречусь я с тобою? (Ю. Визбор).
Квалитативы адъективного происхождения являются именами существительными, но степень субстан-тивности в них не совпадает с той, которая проявляется при конверсии, ср.: столовая, холодное и любимый/лю-бимая/любимые, милый/милая/милые , например: С любимыми не расставайтесь… Не забывай меня, любимый… Как больно, милая, как странно… (А. Кочетков. Баллада о прокуренном вагоне). В качестве вокатива могут употребляться практически все прилагательные с положительной семантикой (обычно в сопровождении притяжательного местоимения 1-го лица): красивая моя, добрая моя, славные наши, замечательный мой. В фольклорных текстах встречаются специфические лексические единицы: ненаглядный, суженый.
Квалитатив дорогой употребляется со стертой оце-ночностью в качестве обращения к незнакомому человеку в русской речи на Кавказе: Дорогой, скажи, пожалуйста, который час? В дореволюционное время за вокативом любезный закрепилось употребление со стороны лица с высоким социальным статусом по отношению к нижестоящему (обычно к прислуге, официанту). Предпринимаются попытки закрепления в качестве нейтрального обращения к незнакомому лицу субстантивата уважаемый .
Негативные обращения содержат различные оценочные слова : хам, гад, паразит, идиот, сволочь. Во-кативная модель часто при этом содержит местоимение 2-го лица: Слушай, ты, скотина, верни мне деньги! При коммуникации представителей социальных низов, псевдоинтеллигентских кругов, а в последнее время все шире и в молодежной среде используются в качестве вокативов обсценные слова. Невежливой формой привлечения внимания считается междометноместоименная конструкция Эй, ты!
Письменная речь в основном повторяет устные во-кативные модели, однако обладает, естественно, большей строгостью в их оформлении. Возникает рамочная конструкция, в которой инициальному вокативу соответствует финальная подпись, что невозможно при устном общении. Как правило, вокативу в письменном тексте предшествует прагматичное клише приветствия: Здравствуйте, Марина Алексеевна! Привет, Коля! Инверсивный порядок, как и в прочих случаях, служит выражением большей экспрессии: Дружище, здорово! Мама, здравствуй! Одни и те же единицы могут выступать в функции определения и квалитатива: Здравствуй, милая Даша! Здравствуй, милая! В русской письменной традиции инициальный комплекс обычно завершается восклицательным знаком, тогда как в Европе запятая свидетельствует о продолжении текста, снижая тем самым информативную ценность вокативно-прагматической конструкции.
Формы вокатива имеют околоядерные разряды онимов: феонимы, теонимы, мифонимы, зоонимы [15, с. 17]. В эмфатической и поэтической речи вокативную форму могут приобретать топонимы и другие онимы: О Волга!.. колыбель моя, любил ли кто тебя, как я (Н.А. Некрасов), Як тебе не любити, Києве мій (Д. Луценко), которые способны обрастать аллюзивностью, употребляться со сменными компонентами: Як тебе не любити, Україно (см. интернет-источники). Однако вокативность не является для этих разрядов облигаторным признаком, поэтому следует уточнить тезис о том, что топонимы и космонимы могут быть компонентами ядра и периферии в зависимости от местоположения на шкале «язык – речь» (Там же). Видимо, помимо антропонимов в ядре ономастического поля другие виды онимов не представлены.
Русский язык располагает богатым набором вока-тивных единиц и моделей [16; 17]. Их изучение открывает некоторые аспекты истории языка, обнаруживает этнолингвокультурную обусловленность использования обращений, определяет задачи по созданию благоприятных условий для коммуникации.
Список литературы Особенности использования вокативных единиц в современном русском языке
- Баландiна, Н.Ф. Функцiї i значення чеських прагматичних клiше в комунiкативному контекстi: монографiя. Київ: АСМI, 2002.
- Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Ин-т языкозн. РАН; Волгогр. гос. пед. ин-т, 1992.
- Кронгауз М.А. Обращения как способ моделирования коммуникативного пространства//Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М.: Индрик, 1999.
- Крысько В.Б. История индоевропейского аккузатива в «Синтаксических исследованиях» А.В. Попова//Вопр. языкознания. 1990. № 4. С. 119-130.
- Латинский язык: учебн. для студ. пед. ин-тов/под общ. ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. 3-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1983.
- Ломтев Т.П. Грамматика белорусского языка: пособие для ун-тов и пед. ин-тов. М.: Учпедгиз, 1956.
- Подольская Н.В. Проблемы ономастического словообразования (к постановке вопроса)//Вопр. языкознания. 1990. № 3. С. 40-54.
- Полевые структуры в системе языка/науч. ред. З.Д. Попова. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989.
- Поливанов Е.Д. Революция и литературные языки Союза ССР//За марксистское языкознание/Е.Д. Поливанов. М.: Федерация, 1931. С. 73-94.
- Поливанова А.К. Формы вежливости в современном русском языке//Лингвистический беспредел: сб. ст. к 70-летию А.И. Кузнецовой. М.: Изд-во МГУ, 2002.
- Попов А.Н., Шендяпин П.М. Латинский язык: Элементарный курс: Хрестоматия, грамматика, словари. 4-е изд. М.: Изд-во лит. на иност. яз., 1958.
- Супрун В.И. Сокращение имен как языковая фреквенталия//Кирилло-Мефодиевские традиции на Нижней Волге: тез. докл. Волгоград: Перемена, 1995. Вып. 2.
- Супрун В.И. Имена и именины. Волгоград: Ком. по печ. и инф., 1997.
- Супрун В.И. Ономастическая синтагматика и парадигматика художественного текста (на материале рассказа В.М. Шукшина «Даешь сердце!»)//Шукшинские чтения: матер. научн. конф., посвящ. памяти В.М. Шукшина. Волгоград: Перемена, 1999. С. 31-36.
- Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал: монография. Волгоград: Перемена, 2000.
- Супрун В.И. Вокативные единицы и модели в русском языке//Грани слова: сб. научн. ст. к 65-летию проф. В.М. Мокиенко. М.: ЭЛПИС, 2005. С. 346-354.
- Супрун В.И. Вокативность как параметр ядра ономастического поля//Девятые Поливанские чтения: сб. статей по матер. докл. и сообщ. Часть III: Ономастика сегодня: проблемы и перспективы исследования. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2009. С. 109-116.
- Федорова Л.Л. Образы «новорусской» речи (о содержании культурно-языковой компетенции читателя современной прессы)//Лингвистический беспредел: сб. ст. к 70-летию А.И. Кузнецовой. М.: Изд-во МГУ, 2002.
- Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: историко-диалектологический очерк. Л.: Наука, 1972.
- Чикобава А.С. Грузинский язык//Языки народов СССР. Т. 4: Иберийско-кавказские языки. М.: Наука, 1967.
- Большой энциклопедический словарь/гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд., перераб. М.: Больш. Росс. энцикл.; СПб.: Норинт, 2001. (БЭС)
- Грамматика русского языка. Т. II. Синтаксис. Ч. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1954. (ГРЯ)
- Голованов Я. Заметки вашего современника//Комс. правда. 1998. 4 авг. № 142-143. С. 5
- Гомазков А., Гомазков О. «… Песнопенья, где отразилась жизнь моя»//труд-7. 2000. 2 марта. С. 10
- Донцова Д. Камасутра для Микки-Мауса. (Иронический детектив. Сериал «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант»). М.: ЭКСМО, 2003. С. 14
- Екимов Б. Подарок//Волгогр. правда. 2001. 28 апр. С. 4
- Екимов Б.П. Высшая мера: Повесть//Роман-газета. 1996. №18. С. 16
- Мастыкина И. Любовь, похожая на стон//Совершенно секретно. 2000. №8. С. 25
- Мурашов А. Добрая память//Волгогр. правда. 1998. 12 сент. С. 7
- Костомаров Д. В ряду поколений//Новый мир. 2000. № 7. С. 139
- Кочетков А. Баллада о прокуренном вагоне//Библиотека всемирной литературы: Советская поэзия. Т. 1. М.: Худ. лит., 1977. С. 427
- Кулькин Е.А. Прощеный век: Трилогия. Книга вторая. Покушение: Роман. Волгоград: Издатель, 2001
- Лингвистический энциклопедический словарь/гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов. энцикл., 1990. (ЛЭС)
- Ржезач Т. Пациент доктора Пааралбакка//Зарубежный детектив: Романы и рассказы. М.: Мол. гвардия, 1982. С. 11-140
- Рубцов С. Чужой фарт: Письмо из Горной Шории//Советская Россия 2000. 7 июн. С. 2
- Тарковский М.А. Ложка супа: Маленькая повесть//Новый мир. 2000. № 7. С. 88
- Metzler Lexikon Sprache. Hrgb. v. H. Glьck. Stuttgart -Weimar: Verlag J.B. Metzler, 1993. (MLS)
- Як тебе не любити, Україно: песни. URL: http://nazarclubdj.promodj.ru/mixes/631515/Yak_tebe_ne_lyubiti_Ukrano.html
- Як тебе не любити...: пiснi та вiршi Дмитра Луценка. URL: http://nashformat.ua/other/product-432