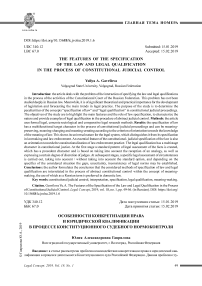Особенности конкретизации права и юридической квалификации в процессе конституционного судебного нормоконтроля
Автор: Гаврилова Юлия Александровна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассмотрена проблема взаимодействия конкретизации права и юридической квалификации в процессе деятельности Конституционного суда Российской Федерации. Данная проблема глубоко не изучена в российском праве. Между тем она имеет существенное теоретическое и практическое значение для развития законодательства и прогнозирования основных тенденций юридической практики. Цель исследования - определить особенности понятий «конкретизация права»» и «юридическая квалификация» в конституционном судопроизводстве. Задачи исследования - осветить основные признаки и роль конкретизации права, охарактеризовать природу и привести примеры юридической квалификации в процедуре абстрактного нормоконтроля. Методы: в статье используются формально-юридический, конкретно-социологический и сравнительно-правовой методы исследования. Результаты: конкретизация права в процессе конституционного судопроизводства имеет многофункциональный целевой характер и по критерию направленности на познание смысла права может быть смыслосохраняющей, смыслоизменяющей и смыслосоздающей. В этом проявляется ее универсальный характер для правовой системы, отличающий ее от конкретизации в правотворчестве и правоприменении. Сущностным признаком конституционно-судебной конкретизации права является также ориентация на конституционализацию правоприменительной практики. Юридическая квалификация в конституционном правосудии имеет многоступенчатый характер. На первом этапе создается типовой шаблон правовой оценки фактов, имеющий прецедентный характер и основанный на учете приема аналогии, а также выражающий известную степень усмотрения судей. На последующих этапах производится конкретная правовая оценка обстоятельств с учетом / без учета типового варианта, и в зависимости от специфики рассматриваемой ситуации могут быть установлены пробелы, неопределенность, несогласованность норм права. Выводы: в заключение автор формулирует вывод о том, что рассмотренные приемы конкретизации права и юридической квалификации в процессе абстрактного конституционного нормоконтроля взаимосвязаны в рамках понятия смыслообразования, использование которого в качестве русского термина является предпочтительным в отечественном праве.
Конституционный судебный нормоконтроль, интерпретация, конкретизация, юридическая квалификация, смыслообразование
Короткий адрес: https://sciup.org/149130250
IDR: 149130250 | УДК: 340.12 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2019.1.6
Текст научной статьи Особенности конкретизации права и юридической квалификации в процессе конституционного судебного нормоконтроля
DOI:
В 1989 г. в рамках советской правовой системы зародился институт конституционного судебного нормоконтроля. Целью его создания являлась защита прав граждан от неконституционных законов и иных нормативных правовых актов, изданных органами высшей публичной власти (Комитет Конституционного надзора СССР). Однако механизм абстрактного конституционного нормоконтроля остается до сих пор не изученным в полном объеме, вопрос о юридической природе актов конституционного правосудия остается самым дискуссионным. Признается, что Конституционный суд Российской Федерации осуществляет официальное нормативное толкование, имеющее для всех обязательный характер. Занимается ли он при этом конкретизацией права, имеет ли такая конкретизация свои отличия от законотворческой и правоприменительной? В чем сущность юридической квалификации в процессе конституционного судопрозводства: связана ли она с непосредственным рассмотрением конкретного дела или же с выполнением функций абстрактного нормоконтроля «на примере конкретного дела»? Данная проблема не раскрыта должным образом в юридической науке и требует пристального анализа. Оговорим, что предметом настоящего исследования не являются особенности региональной конституционной юстиции, которая в едином федеративном правовом пространстве имеет все же свои национально-культурные отличия.
От конституционно-правовой интерпретации к смыслообразованию в конституционном судопроизводстве
В плане общей характеристики актов конституционного нормоконтроля часто употребляемой является формулировка «конституционно-правовая интерпретация». При этом в объем данного понятия включаются операции, подтверждающие или опровергающие текстуальный смысл конституционных норм с точки зрения общеправовых принципов и целей регулирования: толкование Конституции Российской Федерации. В объем понятия включен и законодательно закрепленный и сформировавшийся в практике смысл отраслевых правовых норм с позиции их конституционной оценки: конкретизация положений Конституции Российской Федерации в федеральных законах и конституционализация правоприменительной практики. Утверждается, что в силу усложненного порядка пересмотра Конституции и затруднительности внесения в нее поправок текст Конституции «преобразуется» и в этот текст вносятся новые элементы понимания смысла по мере длительного развития отношений в обществе. Это дает повод некоторым ученым называть результаты такой деятельности «нормосоздающей», «нормообразующей» и т. п. интерпретацией. Например, дискуссию вызывает мнение Е.В. Та-рибо, наделяющего Конституционный суд РФ статусом «позитивного законодателя, формулирующего конституционно-правовое толкование дефектных норм права» [12, с. 20, 21].
Думается, что для описания этого процесса наиболее обобщающим выступает все-таки комплексное понятие смыслообразова-ния, обозначающее набор самых различных правовых средств. Их непреходящая актуальность и ценность заключена в операциях над правовыми смыслами. И главная мысль, неоднократно проводившаяся нами в авторских публикациях, состоит в том, что этот технико-технологический «рецептурный набор» далеко не сводится к одному конституционному истолкованию норм.
Полагаем, что в русском языке термин «толкование» используется в прямом словарном значении – «искать вложенный смысл», то есть не изменяя его и не создавая новый смысл, что именно в практике конституционного правосудия, как раз наоборот, часто и происходит. Уже в этом аспекте понятие смыс-лообразования отвечает доктринальным требованиям познания отечественного права и задачам развития национальной юридической практики, является более точным и емким для содержательной характеристики всего того, чем во временной динамике занимается орган конституционного судебного нормоконтроля.
Недостаток нормативного регулирования, к которому нередко приходит орган конституционного правосудия в процессе толкования оспариваемых заявителями правовых норм, должен устраняться, но не через «приращение нормативного материала» [6] – это, скорее, цель процесса, – а через «аналогичность» правового мышления и прием мысленной аналогии как правовое средство. П.Д. Блохин в цикле своих публикаций убедительно, на наш взгляд, обосновал ключевую роль этого приема в разработке правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации [2, с. 22].
Однако и здесь полемика далеко не заканчивается, поскольку сходство может быть нормативным (аналогичность применяемых норм) и ситуационным (аналогичность установленных фактов). В этой связи согласимся с мнением, что надо четко определиться с тем, что понимается в романо-германском праве под прецедентом [1, с. 14]. Как свидетельствует практика Конституционного суда Российской Федерации, он еще не определился с точным уяснением этого понятия, используя и то, и другое значения. В одном случае говорится о том, что оспариваемая норма является такой же, как и та, в отношении которой уже высказана правовая позиция, и поэтому также подлежит признанию недействительной [8]. В другом случае подчеркивается, что норма права, в отношении которой ранее сформулирована правовая позиция, не может распространяться на гражданина Х, поскольку он относится к другой категории лиц, чем та, о которой в первичной правовой позиции говорил орган конституционного судебного нормоконтроля [7].
Кроме того, из процесса конституционного судопроизводства не может быть полностью изъято усмотрение судей. Вопрос о применимости или неприменимости правовых позиций к тем или иным фактам, а также о том, позволяют или не позволяют правовые позиции распространить их действие на новые обстоятельства, отношения или категории лиц, рассматривается всегда конкретно-исторически. По необходимости он включает в процесс принятия решения соответствующий объем судебного усмотрения, в том числе и по отношению к толкованию по объему. До каких пределов понимать или распространить действие смысла нормативного предписания через правовую позицию, чтобы в орбиту этого действия попали требуемые факты [11]?
Следовательно, толкование во взаимодействии, по меньшей мере с аналогией и усмотрением, приводит к формулированию в конституционном судопроизводстве соответствующего смысла, который практически всегда уточняет, детализирует и развивает содержание законодательного массива. В зависимости от целевой установки такой конкретизации права она может быть смыслосохраняющей (поддерживающей на практике первоначальный законодательный смысл нормы), смыслоизменяющей (корректирующей действующий смысл) и смыслосоздающей (конструирующей новый смысл правовой нормы).
Взаимосвязь конкретизации права и юридической квалификации в конституционном судопроизводстве
Действующее законодательство обязывает орган конституционного правосудия учитывать официальный буквальный смысл норм законодательства и практики их применения [13]. Однако, рассматривая впервые практику ординарной правовой квалификации по данной категории дел, Конституционный суд Российской Федерации дает типовую «конституционно сообразную» квалификацию единичных фактов, что в сочетании с толкованием конституционно-правового смысла нормы составляет исходную правовую позицию по данному вопросу. Она формулируется методом традиционного «юридического силлогизма» и представляет собой типичный результат конкретизации смысла применяемых норм и принципов права, направленного на обеспечение их конституционного осуществления в общественной жизни [5].
Иным представляется алгоритм действий органа конституционного правосудия при воспроизведении (повторении) в его дальнейшей деятельности «подобных» юридических фактов. Здесь он прибегает ко вторичной юридической квалификации, в рамках которой на основе и помимо конституционной интерпретации оспариваемых норм «по умолчанию» делается акцент на оценку конкретных фактов дела с точки зрения их соответствия ранее высказанной правовой позиции. Осуществляется не традиционный «юридический силлогизм», а особый и более усложненный про- цесс правовой оценки обстоятельств, так как действующая норма права прямо не используется, но подразумевается вместе с правовой позицией, а образцом для сравнения выступают факты, уже получившие оценку в рамках базовой правовой позиции. Вторичная правовая квалификация является зависимой от конституционной модели квалификации этого типа отношений.
Если имеется соответствие фактов этой правовой позиции, первичная правовая позиция обогащается новыми типовыми фактами, подтверждающими ее образцовое регулятивное действие. Она может приобрести со временем универсальный характер не только по сравнению с самой первой нормой, в отношении которой она была дана, но и по отношению ко многим другим нормам, выстраивая относительно самостоятельный блок дополнительных правовых регуляторов. Например, гарантии реализации конституционного права граждан на судебную защиту в разных видах судопроизводств должны быть едиными [9]. Если данное соответствие фактов правовой позиции отсутствует, говорят, что факты не подпадают под смысл правовой нормы с точки зрения имеющейся правовой позиции. При этом они могут служить отправной точкой для изменения или формулирования новой правовой позиции [10].
Такое понимание связи этих феноменов основано на идее, давно критиковавшейся еще со времен советской теории права, о том, что «аналогия – это прием конкретизации». Тем не менее указанная формула конкретизации законодательства в конституционном судопроизводстве через «аналогичное» правовое мышление есть реальность современного конституционного правосудия в России, а этот механизм смыслообразования вряд ли может быть чем-то иным.
Однако наиболее сложный случай имеет место, когда из содержания первичной правовой позиции нельзя усмотреть однозначные правовые последствия или отсутствует нормативное решение для вновь рассматриваемых фактов, либо даже если между несколькими правовыми позициями, сформулированными в разные периоды времени, имеются противоречия. В данных ситуациях имеет место нетипичная конкретизация смысла права, ко- торая включает особый юридический состав: 1) конституционное истолкование норм в контексте казуальных фактов; 2) вторичную и производную юридическую квалификацию фактов; 3) логическое следование из исходной правовой позиции дальнейших правовых позиций, имеющих целью устранить конечную пробельность, неопределенность и несогласованность действующих правовых норм в связи с применяемыми в отношении них правовыми позициями.
Результаты любой конкретизации права в процессе осуществления конституционного судебного нормоконтроля могут иметь смыслосохраняющее значение, когда проверяемые нормы права соответствуют Конституции Российской Федерации и найден их единственный конституционно-правовой смысл (по отношению к тенденциям понимания закона в неконституционном смысле они могут иметь одновременно и смыслоизменяющее значение).
Если нормы права, подлежащие проверке, не соответствуют Конституции Российской Федерации и лишаются юридической силы, результатом конкретизации является конструирование нового, как правило дополнительного, смысла правовой нормы, характеризующегося легитимной нормативной новизной: 1) презумпцией доверия к высшему органу конституционного правосудия; 2) презумпцией убедительности аргументации и авторитета его членов; 3) презумпцией отсутствия альтернативных механизмов для принудительного обеспечения исполнения. При надлежащем учете результатов конституционного судебного нормоконтроля в законодательстве элементы выявленной им в практике новизны смысла легализуются, и выработанные конституционно-судебные правовые позиции становятся официальными полноценными юридическими нормами.
Важное значение имеет конструирование в процессе абстрактного конституционного нормоконтроля нового «основного» смысла правовой нормы (или его терминологического эквивалента), что может осуществляться в целях приспособления смысла нормы к изменившимся общественным отношениям, «нового прочтения» буквы и духа нормы. Вопреки распространившемуся сегодня модному понятию «эволютивного» толкования, истоки проникновения которого в российскую правовую доктрину лежат в практике Европейского суда по правам человека, считаем, что актуальная конкретизация смысла нормы в новой исторической обстановке имеет в российском праве форму конструктивного смыслообразо-вания. Отсюда понятие смыслообразования является одним из средств поддержки российской правовой идентичности, не позволяющим любому интерпретатору произвольно претендовать на статус нормотворца «эволю-тивным», «прогрессивным», «модернизационным» и т. п. путем [3].
Выводы
-
1. Несмотря на кажущуюся «избитость» рассмотренных вопросов, настало время признать в российском праве понятие смыслооб-разования [4, с. 17, 18]. Во-первых, это специфический инструмент защиты национальной правовой системы от чуждого ей внешнего воздействия; во-вторых, оно достаточно полно с позиции словарного состава русского языка позволяет описать многообразную деятельность органов конституционного судебного нормоконтроля и комплексный характер применяемых в этом процессе правовых средств.
-
2. Особенность конкретизации права в процессе конституционного нормоконтроля состоит в ее всестороннем характере и свойстве быть универсальным источником «кристаллизации» смысла права. С учетом особенностей ситуации она может уточнять технико-редакционные недостатки, раскрывать неопределенное содержание имеющегося смысла, исправлять его дефекты с помощью правовых позиций. Конкретизация права в конституционном судопроизводстве может быть охарактеризована как существенный элемент смыслообразования наряду с конституционноправовой интерпретацией.
-
3. Особенность юридической квалификации в процессе конституционного нормоконтроля состоит в «наслаивании» друг на друга разных формул правовой квалификации. В этом процессе сочетаются, с одной стороны, поиск и анализ юридических норм на предмет их содержательного сходства, и, с другой стороны, вырабатывается конституционно допусти-
- мая модель квалификации единичных фактов в качестве образца и осуществляется последующая квалификация с точки зрения этой модели каждого конкретного спорного факта. Здесь важная роль принадлежит институту правовой аналогии и усмотрению лиц, осуществляющих конституционное правосудие.
Список литературы Особенности конкретизации права и юридической квалификации в процессе конституционного судебного нормоконтроля
- Антонов, М. В. О некоторых теоретических вопросах прецедентной революции в России / М. В. Антонов // Журнал конституционного правосудия. - 2013. - № 4. - С. 9-15.
- Блохин, П. Д. Индукция, аналогия, интуиция в конституционно-судебном познании: попытка логико-правового исследования / П. Д. Блохин // Журнал конституционного правосудия. - 2016. - № 2. - С. 11-23.
- Гаврилова, Ю. А. Толковать нельзя интерпретировать / Ю. А. Гаврилова // Legal Concept = Правовая парадигма. - 2018. - Т. 17, № 3. - С. 83- 90. - DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2018.3.12
- Гаврилова, Ю. А. Юридическое смыслообразование как проблема теории права / Ю. А. Гаврилова // Журнал российского права. - 2017. - № 3. - С. 13-20.
- Гаджиев, Г. А. Методологические проблемы «прецедентной революции» в России / Г. А. Гаджиев // Журнал конституционного правосудия. - 2013. - № 4. - С. 4-8.
- Информация «Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013-2015 годов)»: (одобрено решением Конституционного Суда РФ от 23.06.2016) // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.ksrf.ru/. - Загл. с экрана.
- Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.12.2003 № 448-О «Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданина Гаврюшенко Павла Ивановича об официальном разъяснении Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 271-О» - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 № 428-О «По жалобе гражданина Шеховцова Егора Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 30 Закона Российской Федерации “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”».
- Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.10.2013 № 1697-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Балошко Василия Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьями 27.7 и 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 1239-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хмызникова Сергея Константиновича на нарушение его конституционных прав частями 5 и 6 статьи 43 Федерального закона "О полиции"». - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.04.2018 № 15-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта “а” пункта 2 статьи 24 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” в связи с жалобой гражданина П.А. Спиридонова и запросом Бугульминского городского суда Республики Татарстан» - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Тарибо, Е. В. Поиск оптимального решения при осуществлении конституционного нормоконтроля / Е. В. Тарибо // Журнал конституционного правосудия. - 2018. - № 1. - С. 17-21.
- Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Российская газета. - 1994. - 23 июля (№ 138-139).