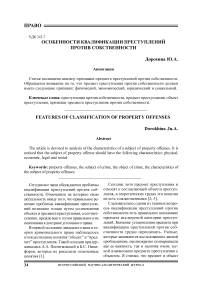Особенности квалификации преступлений против собственности
Автор: Дорохина Ю.А.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу признаков предмета преступлений против собственности. Обращается внимание на то, что предмет преступления против собственности должен иметь следующие признаки: физический, экономический, юридический и социальный.
Преступления против собственности, предмет преступления, объект преступления, признаки предмета преступления против собственности
Короткий адрес: https://sciup.org/14214686
IDR: 14214686 | УДК: 343.7
Текст научной статьи Особенности квалификации преступлений против собственности
Сегодня все чаще обсуждаются проблемы квалификации преступлений против собственности. Отмеченное не потеряло свою актуальность ввиду того, что правильное решение проблемы квалификации преступлений возможно только путем установления объекта и предмета преступления, а соответственно, прежде всего путем правильного их понимания в доктрине уголовного права.
В первой половине двадцатого века в теории криминального права наблюдалось отождествление понятия “объект” и “предмет” преступления. Такой позиции придерживались А.А. Пионтковский и Б.С. Никифоров, которые не разделяли отмеченные понятия [1].
Сегодня, хотя предмет преступления и относят к составляющей объекта преступления, в теоретических трудах эти понятия не есть тождественными [2; 3].
Следовательно, одним из главных вопросов квалификации преступлений против собственности есть правильное понимание предмета исследуемой категории преступлений. Значение установления предмета при квалификации преступлений против собственности трудно переоценить. Ученые, которые занимаются исследованием данной проблематики, неоднократно подчеркивали как ее важность, так и наличие очень тесной взаимосвязи предмета преступления с объектом. Я считаю, что предмет и объект преступления соотносятся как материальная и социальная категории: предмет преступления - материальная, а объект преступления - социальная категория.
Исследуя понятие предмета, М.И. Кор-жанский отмечал, что “изучение предмета способствует более глубокому и правильному выяснению сущности объекта преступления, его конкретизации” [4, с. 86].
Н.И. Загородников указывал на то, что “выяснение точного понятия предмета преступления, его содержания позволяет точно, полно и безошибочно раскрыть содержание преступления” [5, с. 44].
М.И. Коржанский и Е.С. Тенчев писали, что предметом преступления в криминально-правовой науке выступают материальные объекты, в которых отображены общественные отношения [4; 6]. Е.В. Вороши-лин под предметом преступления предлагает понимать “овеществленный элемент материального мира, воздействуя на который, виновный осуществляет посягательство на объект преступления” [7, с. 60]. Л.Д. Гаухман под предметом преступления понимает материальный субстрат, в связи с которым или по поводу которого совершается преступление [8].
Стоит обратить внимание на позицию Г.П. Новоселова, который под предметом преступления предлагает понимать разного рода материальное и невещественное благо, которое имеет возможность удовлетворять потребности человека и действие на которое (или незаконное обращение с которым) наносит им вред [9].
В самом общем виде предметом является то, с помощью чего происходит нарушение общественных отношений, которые регламентируются уголовным законом.
Необходимо также обратить внимание и на практическое значение предмета преступления. Признаки предмета посягательства имеют самостоятельное уголовно-правовое значение и влияют на основания уголовной ответственности, следовательно, и на квалификацию деяния. Кроме того, те или другие свойства предмета преступления позволяют разграничивать смежные составы общественно опасных деяний, а также преступления от позитивных действий. Предмет играет важную роль в выяснении механизма причинения вреда охраняемым интересам, а также в решении вопроса относительно размера материальных убытков, нанесенных посягательством.
Некоторые авторы, которые рассматривают проблему предмета преступлений против собственности, выделяют три его основные и необходимые признака: материальный (физический), экономический и юридический [10; 11].
Однако есть авторы, позицию которых мы разделяем, которые выделяют и четвертый признак – социальный [12, с. 346-442].
Выделены и определены эти признаки были еще в науке дореволюционного уголовного права [13] и сохранились, несколько изменившись, до сих пор.
Следовательно, традиционно считается, что физический (материальный) признак предмета преступления против собственности – это доступность любого объекта вещного мира для восприятия. Доступность восприятия предмета включает возможность совершения с ним любых физических действий. Предмет имеет форму, цвет, вес, количество, объем, физическое состояние и отвечает другим свойствам материального тела. Существенной в определении материальности предмета является его автономность, что позволяет совершать с ним физические действия: перемещать, прятать, передавать и тому подобное, в результате чего не теряются его потребительские свойства и целевое назначение.
Я считаю, что толкования понятия предмета преступления как материального объекта внешнего мира необоснованно ограничивает рамки этой категории. В некоторых случаях деяние может быть направлено и на “невещное” благо (информацию, электрическую энергию, право на имущество и тому подобное).
С позиции уголовного права и законодательства предмет преступлений против собственности – это движимое имущество (имущество, которое можно свободно перемещать в пространстве без причинения ему вреда). К движимому имуществу относятся деньги, валютные ценности, ценные бумаги, имущественные права и обязанности.
Следовательно, предметом преступлений против собственности может быть имущество и право на имущество. Использование в диспозициях статей УК двух разных понятий – “имущество” и “право на имущество” – свидетельствует о том, что под имуществом законодатель понимает вещи, а под понятием “право на имущество” – право на вещь, а не на действие лица.
Второй признак – экономический, согласно которому предметом преступлений против собственности может быть не любая вещь, а лишь та, которая имеет материальную ценность. Такая вещь должна иметь меновую и потребительскую стоимость.
Предприятия, здания, земельные участки и тому подобное согласно законодательству Украины могут принадлежать лицу на праве собственности и иметь материальную ценность (в них вложен человеческий труд). Таким образом, можно утверждать, что предметом преступлений против собственности может быть не только движе-мое, но и недвижимое имущество.
Согласно гражданскому законодательству, к недвижимому имуществу (ст. 181 ГК Украины) принадлежат земельные участки, а также объекты, расположенные на земельном участке, перемещение которых является невозможным без их обесценивания и изменения их назначения. Режим недвижимой вещи распространен законом на воздушные и морские судна, судна внутреннего плавания, космические объекты, а также другие объекты, права на которые подлежат государственной регистрации.
Животные являются особенным объектом гражданских прав. На них распростра- няется правовой режим вещи (ст. 180 ГК Украины), потому они также могут быть предметом преступления против собственности. Равно как и сложные, неделимые вещи; вещи, определенные индивидуальными или родовыми признаками, главная вещь и принадлежность и тому подобное.
Сегодня нет единства мыслей по поводу вопроса: признавать ли так называемые ле-гитимационные знаки – номерки, жетоны, талоны и тому подобное, которые дают право на получение имущества, предметом исследуемой категории преступлений. Господствующей в научной литературе является мысль о том, что их (легитимационные знаки) нельзя признавать предметом преступлений против собственности. Отмеченная позиция объясняется тем, что завладевание жетоном на получение одежды в гардеробе не образует состав преступления (из-за отсутствия экономического признака предмета преступления). При наличии намерения относительно присвоения чужой одежды совершенное надлежит квалифицировать как покушение на преступление [14; 15].
В более содержательном подходе к определению своей позиции относительно отмеченной проблематики уместно обратить внимание на исследование, проведенное Н.А. Антонюк, в котором на основании экономического признака предмета преступления ученый доказывает, что сегодня существует два вида легитимационных знаков, а именно:
-
1) те, которые имеют меновую и потребительскую стоимость и, соответственно, являются предметом преступлений против собственности;
-
2) те, которые не имеют меновой и потребительской стоимости и не могут быть предметом преступлений против собственности, а выступают исключительно в роли средств совершения преступлений [16, с. 280-283]. Я полностью разделяю отмеченную позицию.
Не являются предметом преступлений против собственности вещи, которые фак- тически потеряли свою меновую или потребительскую стоимость. Например, некондиционные, не отвечающие стандартам строительные материалы или их отходы, которые не могут быть использованы при строительстве определенных объектов и которые не имеют для их владельца экономической ценности. Оставление их за пределами строительства, без охраны, на протяжении длительного времени может быть признаком того, что эти вещи не нужны владельцу.
Следующим признаком предмета преступлений против собственности является юридический – вещь должна быть чужой для виновного.
Толкование норм Уголовного кодекса Украины указывает на то, что под понятием “чужое имущество” понимается имущество, которое не находится в собственности или законном владении виновного [17, с. 444]. Таким образом, чужое имущество является объектом права собственности, и ответственность за посягательство на него наступает одинаковая, не зависимо от его формы.
Но ученые озвучивают и мысль относительно того, что имущество (вещь) может быть чужим и для пострадавшего. Традиционно считается, что, в отличие от чужого, имущество будет своим, если оно находится в собственности или в законном владении лица. Однако В.В. Векленко считает, что это не отвечает действительности. Отдельные предметы, указывает ученый, могут быть признаны для лица своими, даже если не находятся в законном владении, например, фальсифицированный или запрещенный к производству товар. В этом случае владелец таких вещей не является их владельцем, но это имущество является для него своим. В связи с этим фактически исчезает предел между своим и чужим, хотя последнее должно иметь явные отличительные черты. Чужое имущество – это такие вещи, которые не только не принадлежат виновному, но те, к ко- торым последний относится как постороннее лицо. Иначе говоря, чужое имущество – это имущество, которым лицо не имеет права распоряжаться. При этом неважно известен его владелец виновному и есть ли он вообще, важно, что лицо пока не получило или не приобрело право на распоряжение вещами, не может считать такое имущество своим [15, с. 123-124].
Истоки обсуждения этой проблематики можно найти еще в Уложении о наказании криминальных и исправительных 1845 г., где были определены формальные признаки имущественных преступлений. Кража определялась как “всякое... но в тайне... похищение чужих вещей, денег, иного движимого имущества” (ст. 1644). Грабеж -“всякое в кого-либо отнятие принадлежащего ему или же находящегося в него имущества...” (ст. 1637). Похожая формулировка содержалась и в определении разбоя (ст. 1627). Очевидно, эти дефиниции позволяли дореволюционным авторам утверждать, что в случае совершения преступления против собственности похищенное имущество должно быть чужим для преступника, находиться в чужом владении; чужое владение при похищении предусматривает такое фактическое владение или держание вещи.
Еще в 1881 г. Кассационный департамент по уголовным делам Правительственного сената в одном из своих разъяснений отмечал: “Для наказуемости кражи необходимо лишь, чтобы похищаемое посредством кражи имущество было по отношению к похитителю чужим, при этом совершенно безразлично, каким путем имущество это дошло в руки лица, в которого оный похищено, так как всякое, даже и незаконное владение, охраняется от насилия самоуправства”.
Отмеченную позицию разделяли и ведущие юристы того времени (Н.С. Таганцев, А.А. Жижиленко, И.Я. Фойницкий), указывая, что понятие краж “сводится к посягательству против фактического держателя вещи, совершенно независимо от прав, ему по отношению к данной вещи принадлежа- щих; будет то ли собственник, арендатор или даже недобросовестный владелец безразлично; похитить имущество можно даже у вора”. Они считали, что преступление против собственности может быть направлено не только против владельца вещи, но и против любого “фактического держателя ее”, независимо от того, “имело такое ли обладание место по воле владельца юридического или против его воли”.
О.О. Жижиленко писал: “...похищение похищенного имущества есть все же похищение, так как для второго похитителя это имущество, несомненно, является чужим, раз оный находится в фактическом обладании второго лица” [18, с. 63].
Ведущие специалисты советского периода (Б.С. Никифоров, Г.А. Кригер, И.А. Владимиров, Ю.И. Ляпунов) утверждали, что в случаях, когда имущество похищается у лица, которое завладело им преступным путем, совершенное является преступлением против собственности, поскольку и в этих ситуациях “остается посягательство на личную собственность первоначального обладателя вещи. Интерес собственника заключается в том, чтобы имущество было ему возвращено или использовано в его интересах”.
Г.А. Кригер, предлагая квалифицировать как преступление против собственности кражу ранее похищенного имущества, объяснял свою позицию тем, что оно “осложняет, если не полностью исключает возможность возвращения этого имущества, и тем самым ущерб социалистической собственности причиняется как бы совокупными действиями обоих правонарушителей” [19, с. 47].
Квалификация советскими юристами кражи краденого как преступление против собственности отвечала и представлению того времени об антисоциальной сущности хищения чужого имущества.
Фактически так же обосновывают свою позицию и современные авторы, которые предлагают квалифицировать как преступление против собственности хищение похищенного (А.Г. Безверхов, А.И. Бой- цов, Г.В. Верина, Г.Н. Борзенков) [20, с. 110; 21, с. 197].
Г.Н. Борзенков утверждает, что как родовой объект преступлений собственность включает общественные отношения в сфере распределения материальных благ, предназначенных для индивидуального или коллективного потребления или для осуществления производственной деятельности. Распределительные отношения, по его мнению, нарушаются преступлениями против собственности как в своей динамике, так и в статике. По мнению А.Г. Безверхова, в случае разворовывания ранее похищенного имущества “уголовный закон не обеспечивает охрану незаконным интересам владельцев, а запрещает осуществление общественно опасных посягательств на собственность вообще... Любое разворовывание нарушает имущественный правопорядок (общие для всех принципы и правила поведения в имущественной сфере)” [20, с. 111].
А.И. Бойцов указывает, что с точки зрения криминального права в краже краденого нет ничего парадоксального. И дело не только в том, отмечает ученый, что в этих случаях нарушается право собственности первичного владельца имущества. Похищение имущества у незаконного владельца за своей социальной природой также опасно для общества, оно нарушает общие условия функционирования отношений собственности в обществе и приводит к пара-зитивному обогащению преступника за счет других лиц [21, с. 197 – 198].
Однако существует и противоположная точка зрения (Н.А. Лопашенко, З.А. Незна-мова, М.В. Фролов, И.Я. Козаченко, С.А. Елисеев, С.И. Тихенко, А.О. Пинаев), согласно которой владельцем имущества считают исключительно законного (титульного) владельца, и агрументируют ученые свою позицию следующим образом.
Преступления против собственности включают два аспекта: социально-экономический (фактический) и юридический. С фактической стороны преступление про- тив собственности является деянием, которое нарушает отношения принадлежности объекта собственности его владельцу. В результате преступления владелец теряет фактическое владение своей вещью и тем самым несет материальный (имущественного) ущерб, поскольку лишается возможности владения, пользования и распоряжения.
Юридическая сторона данного преступления заключается в нарушении юридического содержания отношений собственности – субъективного права собственности. Преступление нарушает это право как юридическое благо, в результате совершения преступления владелец практически не может осуществлять свои права относительно имущества, которое вышло из его владения. Конечно, право собственности у пострадавшего сохраняется. Как владелец он имеет право вытребовать свое имущество из чужого незаконного владения, затребовать возмещение причиненного ему вреда. Однако речь не идет о любой возможности реализации права владения, пользования и распоряжения имуществом, которое незаконно “вышло” из его владения.
В связи с этим, по мнению этой группы ученых, хищение похищенного не образует преступления против собственности, потому что оно не причиняет вред всей системе отношений, которые образуют объект преступления против собственности. В частности, вторичное хищение чужого имущества не нарушает субъектно-объектных отношений собственности, поскольку его предметом является имущество, которое уже вышло из владения законного (титульного) владельца.
Хищение похищенного не нарушает прав владельца, поскольку он уже лишен возможности реально владеть вещью. Хищение похищенного не нарушает и общественных отношений, которые защищают отношения собственности, в состав которых входит “потребность государства имеющимися у него средствами гарантировать безопасность отношениям собственности” [22, с. 27].
Сторонники этой позиции указывают на то, что к средствам обеспечения безопасности отношений собственности относится и уголовный закон. Но последний, как известно, призван защищать позитивные, социально полезные общественные отношения, охранять права и законные интересы субъектов этих отношений. Негативные социальные отношения, противозаконные имущественные интересы он не охраняет и не должен охранять. Хищение похищенного не есть преступление против собственности и потому, что общие для всех владельцев условия реализации их имущественных прав, имущественный правопорядок (общие для всех принципы и правила поведения в имущественной сфере), общие условия функционирования отношений собственности в обществе, которые, по мнению других ученых (Г.Н. Борзенкова, А.Г. Безверхова, А.И. Бойцова), нарушаются вторичным исключением имущества, находятся за рамками отношений собственности как объекту уголовно-правовой охраны. За рамками составов преступлений против собственности находится и такое следствие, как обогащение виновного за счет других лиц.
Ученые отмечают, что речь идет об уголовно-правовой оценке действий лица, которое осознает, что это имущество получено преступным путем. В ситуации, когда лицо этого обстоятельства не осознает, совершенное необходимо квалифицировать как покушение на преступление против собственности.
Мне трудно согласиться с приведенной позицией, так как факт осознания преступником ситуации относительно того, на какую именно собственность направлено его действие, не является достаточным для квалификации преступлений против собственности.
Следовательно, я полностью разделяю точку зрения тех ученых, которые считают, что хищение виновным чужого имущества, которое до этого уже было украдено другим лицом (кража краденого), должно ква- лифицироваться как законченное преступление против собственности.
Так же должно быть квалифицировано завладевание забытой владельцем в известном ему месте вещи, потому что виновный не мог не понимать, что владелец может вернуться за ней.
Содержание субъективной стороны этого деяния раскрывается через предмет и объективную сторону этого преступления, в частности через его внешние поведенческие признаки – место, время, способ и обстоятельства совершения преступления.
Предметом кражи всегда является любое чужое имущество или имущественные права на него. Нередко это имущество может находиться на открытой местности, в местах общего пользования или в другом доступном месте. Правовой режим такого имущества не всегда означает, что оно является ничьим, таким, от которого владелец отказался или потерял с ним связь.
О том, что имущество, доступ к которому был незатруднен, имеет владельца, что оно временно по каким-то причинам очутилось вне поля зрения последнего, что владелец фактически не потерял над ним контроль и всегда может его возобновить, а также то, что лицо, которое обнаруживает такое имущество и завладевает им, фактически похищает его, могут свидетельствовать такие обстоятельства:
-
- индивидуальные отличные признаки предмета имущества (тип, вид, наименование, особенности и тому подобное), по виду которого виновное лицо в состоянии определить владельца имущества;
-
- конкретная характеристика места пребывания имущества на момент его выявления;
-
- время, на протяжении которого у виновного лица вызревает и реализуется намерение завладеть имуществом;
-
- причины появления имущества на месте выявления, условия и обстоятельства его пребывания там, по которым можно определить признаки принадлежности имуще-
- ства конкретному лицу и проследить ее связь с ним.
Об умысле хищения имущества при анализируемых основаниях может свидетельствовать поведение виновного лица во время и после преступления. Даже если это лицо к выявлению имущества имело какой-то свой порядок действий, после его выявления отказывается от своих планов, завладевает имуществом и исчезает с места события.
Способ хищения имущества является тайным, одной из разновидностей которого есть хищение имущества в присутствии других лиц, которые, по убеждению виновного лица, не воспринимают его действия как хищение имущества. Учитывая специфику этого преступления, способами исключения имущества преимущественно выступают физическое вытягивание, перемещение, удаление его из владения владельца.
Правильное понимание предмета преступления имеет большое значение и относительно разграничения разных составов преступлений против собственности. Так, практике известны преступления, связанные с завладеванием специальными предметами, которые имеют особенную историческую, научную, художественную или культурную ценность (культурное наследие).
Безусловно, охрана культурного наследия в любом развитом государстве должна быть одним из важнейших заданий, поскольку оно (наследие) является вкладом народа в развитие человеческой цивилизации, средством социализации будущих поколений. При этом преступные посягательства на культурные ценности приводят к тому, что общество теряет (нередко навсегда) часть своего культурного пласта.
Следовательно, в связи с этим Украиной были ратифицированы ряд международноправовых актов, связанных с охраной культурного наследия. Тем самым наша страна приняла на себя обязательства относитель- но обеспечения выявления, охраны, популяризации и передачи будущим поколениям культурного наследия.
Отмеченные положения закономерно находят воплощение в Основном законе нашего государства (ч. 4 ст. 54; ч. 5 ст. 54; ст. 66). Важную роль в реализации этих конституционных предписаний должны играть меры уголовно-правового характера.
Для полноты анализа необходимо также подчеркнуть тот факт, что квалификация преступных посягательств на культурные ценности в Уголовном кодексе Украины, к сожалению, не отвечает целям правовой защиты культурного наследия. Дело в том, что кражи, грабежи, разбои, мошенничества, совершенные с целью завладевания артефактами и раритетами, традиционно квалифицируются как обычные преступления, поскольку в соответствующих статьях УК Украины закреплено исключительно намерение, направленное на “завладевание имуществом”. Следовательно, законодатель не видит разницы между такими предметами преступлений, как, например, картина Архипа Куинджи и обычным мобильным телефоном.
Мобильный телефон – это продукт массового производства, ценность которого со временем уменьшается, а картина – это культурная ценность, которая является не только национальным приобретением, но еще и шедевром мирового культурного наследия, ценность которого с годами значительно растет. Позиция отечественного законодателя в данном случае входит и в противоречие с международными подходами относительно измерения культурного наследия, когда оно рассматривается не только как экономическая ценность, но и как общественное благо, которое включает в себя исторические, социальные, духовные и образовательные ценности.
Следовательно, преступления, которые посягают на культурные ценности, должны квалифицироваться как корыстные преступления против собственности. Обяза- тельным признаком составов этих преступлений является их предмет в виде культурных ценностей.
Установленный порядок охраны национального культурного наследия Украины и (или) мирового культурного наследия (соответствующие отношения) выступает основным обязательным, а не дополнительным (к тому же факультативным) объектом уголовно-правовой охраны.
Сегодня этот вопрос уже достаточно обстоятельно исследован отечественными учеными, которые достаточно обоснованно предоставили соответствующие предложения относительно внесения изменений и дополнений в гражданское и уголовное законодательство Украины.
К дискуссионным и малоисследованным можно отнести и вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые совершили противоправные посягательства на собственность членов их семей и родственников. Согласно ст. 63 СК Украины не является чужим имущество, которое находится в общей совместной собственности нескольких лиц, ведь совладельцы имущества владеют, пользуются и распоряжаются им совместно. По мнению В.П. Олий-ныка, противоправные действия, направленные на завладевание этим имуществом, могут квалифицироваться по ст. 356 УК Украины [23, с. 80].
Открытым остается вопрос квалификации действий относительно имущества, которое является частной собственностью (приобретено лицом до заключения брака или до рождения детей, то есть до появления лиц, которые притендуют на него). С.А. Шейфер и А.Г. Безверхов считают, что отношения в семье и между родственниками имеют лично доверительный характер, и потому уместно отнести эту категорию дел к делам частного обвинения [24, с. 56].
Спорным сегодня является и вопрос относительно признания предметом преступлений против собственности имущества, которое находится при умершем и в местах захоронения. Г.Л. Кригер утверждает, что “после захоронения, когда родственники или другие наследники добровольно исключили оставленные при умершем вещи из своего имущества, ответственность за похищение невозможна” [12, с. 142]. При этом кражу предметов, которые находятся в могиле, ученый предлагает квалифицировать как преступления против общественного порядка и нравственности.
Этот подход является достаточно спорным ввиду того, что вещи, оставленные при умершем, наделены всеми признаками предмета преступления против собственности, а не выброшены. Кроме того, они являются чужими для похитителя, а диспозиция и субъективная сторона ст. 297 УК Украины не отвечают условиям привлечения к уголовной ответственности в случаях, когда завла-девание таким имуществом не сопровождалось надругательством над могилой.
Считаю, что в данном случае объектом преступления является собственность, соответственно, предметом может быть имущество (вещь), которое оставлено при умершем. Так же должны квалифицироваться действия относительно похищения венков и любых атрибутов с мест захоронения.
Безусловно, предложенное понимание юридического признака предмета преступлений против собственности позволит ре- шить лишь отдельные вопросы квалификации преступлений против собственности.
Относительно социального признака предмета преступлений против собственности отмечу, что она выражается в том, что данный предмет должен быть создан или отделен от естественной среды. По мнению украинских ученых [14, с. 431], предметом преступлений против собственности не могут выступать естественные богатства в их естественном состоянии. Противоправное обращение таких предметов в свою собственность при наличии оснований может рассматриваться как преступление против окружающей среды.
Я соглашусь с позицией тех ученых, которые отмечают, что преступления относительно естественных объектов, которые изъяты из естественного состояния благодаря вложенному труду человека или отделены от естественной среды юридически, следует квалифицировать как преступления против собственности.
Поводя итог, отмечу, что предмет преступления против собственности должен иметь все признаки: физический, экономический, юридический и социальный. Отсутствие хотя бы одного из них исключает квалификацию совершенного как законченного преступления против собственности.
Список литературы Особенности квалификации преступлений против собственности
- Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. 666 с.
- Коржанский Н.И. Предмет преступления (понятие, виды и значение для квалификации): Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. 56 с.
- Гаухман Л.Д. Объект преступления: лекция. М.: Академия МВД РФ, 1992. 25 с.
- Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. 248 с.
- Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном правое//Труды ВЮА. Вып. XIII. М., 1951.
- Тенчев Э.С. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности. Иваново, 1980. 87 с.
- Ворошилин Е.В. Предмет преступления при мошенничестве//Социалистическая законность. 1976. № 9.
- Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-ое изд., перераб. и дополн. М., 2003. 448 с.
- Новоселов Г.П. Актуальные вопросы учения об объекте преступления: методологические аспекты: Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 46 с.
- Борзенков Г.Н. Преступления против собственности в новом Уголовном кодексе РФ//Юрид. мир. 1997. № 6-7.
- Яни П.С. Преступное посягательство на имущество//Законодательство. 1998 № 9.
- Кримiнальне право (Особлива частина): пiдручник/За ред. О.О. Дудорова, Е.О. Письменського. Т. 1. Луганськ: Видавництво «Еталон-2». 780 с.
- Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций: в 3 т. Т. 2: Особенная часть (главы I-X). 4-ое изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007.
- Дудоров О.О., Мельник М.I., Хавронюк М.I. Злочини у сферi пiдприємництва. Навчальний посiбник/За ред. М.I. Хавронюка. Київ: Атiка, 2001. 432 с.
- Векленко В.В. Квалификация хищений чужого имущества: Дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2001. 375 с.
- Антонюк Н.О. Правовая природа легитимацiйного знака//Науковий вiсник Львiвського державного унiверситету внутрiшнiх справ. 2010. № 2. С. 278-285.
- Науково-практичний коментар Кримiнального кодексу України вiд 5 квiтня 2001 р./За ред. М.I. Мельника, М.I. Хавронюка. Київ: Канон; А.С.К., 2002. 1104 с.
- Жижиленко А.А. Преступления против имущества и исключительных прав. М., 1928.
- Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1974.
- Безверхов А. Имущественные преступления. Самара, 2002.
- Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002.
- Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб., 2003.
- Олiйник В.П. Предмет злочинiв проти власностi: поняття, види, кримiнально-правове значення: Дис. … канд. юрид. наук. Харкiв, 2010. С. 80.
- Шейфер С.А., Берверхов А.Г. Имущественные преступления в семье: материально-правовой и уголовно-процессуальный аспекты//Государство и право. 2001. № 6.