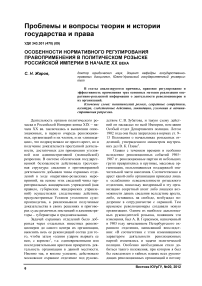Особенности нормативного регулирования правоприменения в политическом розыске Российской империи в начале XX века
Автор: Жаров Сергей Николаевич
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 20 (279), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются причины, правовое регулирование и эффективность применения трех основных методов реализации оперативно-розыскной информации о деятельности революционеров и их организаций.
Политический розыск, секретные сотрудники, агентура, следственные действия, ликвидация, уголовная и административная репрессия
Короткий адрес: https://sciup.org/147149694
IDR: 147149694 | УДК: 343.301
Текст научной статьи Особенности нормативного регулирования правоприменения в политическом розыске Российской империи в начале XX века
Деятельность органов политического розыска в Российской Империи конца XIX – начала XX вв. заключалась в выявлении оппозиционных, в первую очередь революционных, организаций и их членов, и их «ликвидации», что подразумевало не просто арест, но и получение доказательств преступной деятельности, достаточных для применения уголовной или административной (полицейской) репрессии. В системе обеспечения государственной безопасности действовала трехчленная структура: сведения о противоправной деятельности добывали чины охранных отделений в ходе оперативно-розыскных мероприятий, на основе этих сведений чины территориальных жандармских учреждений (как правило, губернских жандармских управлений) осуществляли следственные действия, предусмотренные Уставом уголовного судопроизводства, а реализовывали полученные доказательства в своих решениях и приговорах суды различных инстанций и администраторы – губернаторы и градоначальники.
Задачей охранных отделений было добраться через отдельных известных революционеров до самого центра их организации, выяснить весь ее руководящий состав для того, чтобы затем «одним ударом вырвать ее всю, с корнем»1, т.е. единовременными или последовательными арестами прекратить деятельность организации в данной местности. Именно так, и вполне успешно, действовало московское охранное отделение под руково- дством С. В. Зубатова, и такую схему действий он насаждал по всей Империи, возглавив Особый отдел Департамента полиции. Летом 1902 года она была закреплена в нормах ст. 9– 13 Положения о начальниках розыскных отделений, утвержденного министром внутренних дел В. К. Плеве2.
Однако с течением времени и особенно вследствие революционных событий 1905– 1907 гг. революционные партии из небольших групп превратились в крупные, массовые организации, пользовавшиеся поддержкой значительной части населения. Соответственно и арест какой-либо организации приводил лишь к ослаблению осведомленности розыскного отделения, поскольку внедренный в эту организацию секретный агент либо лишался возможности давать сведения вследствие ареста, либо, оставшись на свободе, возбуждал подозрение в сотрудничестве с охранкой. Тем временем революционеры создавали новую организацию. Одним из наиболее дальновидных руководителей розыска, понявшим эти изменения, был А. В. Герасимов, назначенный в 1905 году начальником Петербургского охранного отделения, написавший впоследствии: «В соответствии с этим изменившимся характером деятельности революционных партий изменялись и задачи политической полиции. Особенно необходимым стало добиться такого положения, при котором я был бы осведомлен о тайных планах всех руководящих революционных организаций и потому
Жаров С. Н.
имел бы возможность расстраивать те из этих планов, которые были наиболее опасны для государства»3. Эти идеи были не только одобрены министром внутренних дел П. А. Столыпиным, но и закреплены в § 7 Положения о районных охранных отделениях, утвержденного в декабре 1906 года: «Одной из главнейших задач начальников районных охранных отделений является учреждение центральной внутренней агентуры, могущей освещать деятельность революционных сообществ вверенной его надзору области. Указания этой агентуры должны быть использованы для направления деятельности входящих в районы розыскных органов и в особенности тех, которые проявляют недостаточно успешную деятельность»4. Еще более подробно зафиксировал новую ситуацию § 29 Положения об охранных отделениях от 9 февраля 1907 г.: «Если произведенное негласное дознание приведет к положительным результатам, то начальник охранного отделения руководствуется в дальнейшем нижеследующим: а) если расследование обнаружило основательные указания на готовящееся преступление (покушение на чью-либо жизнь, ограбление с политической целью, приготовление к демонстрациям и т.п.), то начальник охранного отделения принимает меры к предупреждению такового, путем задержания заподозренных лиц и отобрания орудий преступления и б) если негласное расследование установило совершающееся преступление (существование революционного сообщества (ст. 102, 124, 126 Уголовного Уложения), тайной типографии (ст. 132 того же Улож.), лаборатории взрывчатых веществ (закон 9 февраля 1906 г.), склада преступной литературы (ст. 132 Угол. Улож.) и т.д.), то начальник охранного отделения, на основании ст. 257 и 258 Уст. Угол. Суд., если на месте не находятся судебный следователь, начальник жандармского управления или его помощник, принимает все не терпящие отлагательства меры, как то: осмотры, освидетельствования, обыски и аресты, руководствуясь в этом отношении Уст. Угол. Судопр.»5.
Этим достигалась и еще одна важная цель политического розыска: полученные доказательства позволяли судам применить более суровую уголовную санкцию и тем самым удалить активных партийных функционеров от революционной деятельности на значительный срок, и уж как минимум не допустить их оправдания в обстановке, когда луч-
Особенности нормативного регулирования правоприменения в политическом розыске… шие силы отечественной адвокатуры почитали своим долгом выступать защитниками на политических процессах.
Такая схема организации и правового регулирования работы охранных отделений, позволявшая им не только добывать, проверять, анализировать и хранить информацию о противоправной деятельности, но и реализовывать эту информацию, осуществляя в исключительных случаях следственные действия, оказалась весьма результативной, поэтому сохранилась даже после отставки Герасимова, что в условиях Российской Империи происходило не часто. Более того, руководители политического розыска рекомендовали всем жандармским офицерам-розыскникам приобретать секретных сотрудников в центральных органах революционных партий, а при невозможности – помогать своим агентам делать партийную карьеру. Инструкция по организации и ведению внутренней агентуры, составленная при Московском охранном отделении в 1911 году, гласила, что «сотрудник, стоящий в «низах» организации, постепенно может быть продвинут выше, путем последовательных арестов более сильных, окружающих его, работников»6.
Решительно изменил эту вполне эффективную схему свитский генерал-адъютант В. Ф. Джунковский, назначенный в начале 1913 года товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией. В своем циркуляре от 26 октября 1913 г. он категорически потребовал от начальников розыскных учреждений «ликвидировать революционные группы, как скоро агентура даст Вам определенные и достоверные сведения о наличии преступной деятельности, а наружное наблюдение осветит связи и взаимоотношения заподозренных лиц»7. Не обладавший розыскным опытом руководитель тем самым существенно усложнил работу офицеров охранки, лишив их возможности получать полную и точную информацию из руководящих органов революционных партий. Руководство Департамента полиции пыталось оправдать перед подчиненными действия своего начальника, представив его требование как некий новый, «предупредительный» метод. В предписании от 26 ноября того же года было указано, что «обстоятельства настоящего момента вызывают настоятельную необходимость подавления всяких преступных замыслов в области революционного движения в самом их зародыше, не ожидая развития преступного наме-
Проблемы и вопросы теории и истории государства и права рения»8. Однако всем сотрудникам охранки было ясно, что в отсутствие должных сил и средств, при оппозиционном настроении значительной части работников прокуратуры и суда идея «предупреждения» не сработает. Собственно это в результате и произошло. В преддверии грядущего обострения политического кризиса органы политического розыска оказались обезоружены собственным руководством.
Мотивы действий В. Ф. Джунковского рассматривались неоднократно, главным образом с либеральных позиций. Автор одной из последних работ, посвященных этой неоднозначной фигуре, утверждает, что идея могучего государства и его ответственности за соблюдение прав человека осталась основополагающей в сознании Джунковского до конца его жизни, а концепция его реформ в политическом розыске объединила в себе безусловный авторитет права и христианский идеал милосердия9. Не оспаривая этих выводов, заметим, что подобные принципы и концепции свидетельствуют о крайней некомпетентности, несоответствии занимаемой долж- ности. Это, в сущности, традиционная беда российской государственности. Но в данном случае разрушительные последствия некомпетентности должностного лица были столь велики, что существенно приблизили крах имперской государственности.
Список литературы Особенности нормативного регулирования правоприменения в политическом розыске Российской империи в начале XX века
- Кошель П. А. История российского сыска. М., 2005. С. 189-190.
- Жаров С. Н. История правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в России (IX -начало XX вв.). Документы и материалы: учебное пособие. Челябинск, 2007. С. 53-54, 64, 75-76, 126.
- «Охранка»: воспоминания руководителей охранных отделений. Т. 2. М., 2004. С. 197.
- ГАРФ. Ф. 58. Оп. 5. Д. 4. Л. 294.
- Агентурная работа политической полиции Российской империи. Сборник документов. 1880-1917. М., 2006. С. 339.
- Дунаева А. Ю., Джунковский В.Ф. Политические взгляды и государственная деятельность (конец XIX -начало XX в.): автореферат дис.... канд. истор. наук. М., 2010. С. 23-24.