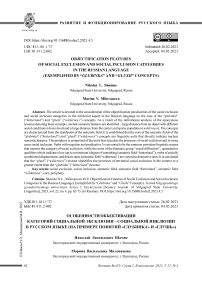Особенности объективации категорий социальной эксклюзии - социальной инклюзии в русском языке (на примере понятий «глубинка» и «глушь»)
Автор: Шамне Н.Л., Милованова М.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению особенностей объективации в русском языке категорий социальной эксклюзии и социальной инклюзии в территориальном аспекте на примере понятий «глубинка» и «глушь». В результате дефиниционного анализа одноименных лексем, обозначающих данные понятия, выявлены ядерные семантические признаки: большое расстояние от объекта с другими социальными условиями (глубинка), большое расстояние от центра и малочисленность социума (глушь). Названные понятия в работе характеризуются с позиций семантического поля. Установлено, что ядро семантических полей понятий «глубинка» и «глушь» составляют языковые единицы, непосредственно указывающие на ядерные семантические признаки, а периферию - единицы, актуализирующие процессы социальной эксклюзии и в отдельных случаях социальной инклюзии. В качестве общих ведущих языковых средств, выражающих категорию социальной эксклюзии, выделены глаголы с отрицанием и предикатив нет, в качестве различающихся - единицы тематической группы «социальные трудности»; квантитативные квалификаторы, указывающие на малую (вплоть до минимума) степень чего-либо (семантическое поле «глубинка»); глаголы социально обусловленного перемещения, дейктические единицы (семантическое поле «глушь»). Сделан вывод о том, что лексема глушь в большей степени, по сравнению с лексемой глубинка, объективирует в контексте процессы территориальной социальной эксклюзии.
Социальная эксклюзия, социальная инклюзия, семантическое поле, семантическое поле «глубинка», семантическое поле «глушь», ядро, периферия
Короткий адрес: https://sciup.org/149143749
IDR: 149143749 | УДК: 811.161.1'37 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.4.5
Текст научной статьи Особенности объективации категорий социальной эксклюзии - социальной инклюзии в русском языке (на примере понятий «глубинка» и «глушь»)
DOI:
Изучение категорий « социальная эск-люзия » , « социальная инклюзия » активно началось в последней трети XX в. в зарубежной социологии. В большей степени внимание ученых было обращено на понятие экс-клюзии, которое традиционно связывают с именем французского социолога Реми Ленуара, рассматривающего в своих работах 70-х гг. такие категории социального исключения, как инвалиды, сироты, безработные, бездомные и др.
В научной литературе существуют различные подходы к изучению понятий социальной эксклюзии – социальной инклюзии. В отечественной социологии данная оппозиция характеризуется с различных сторон: с точки зрения распространенности [Дмитриева, 2012], территориального фактора [Ильин, 2010], образовательного процесса (например, проблемы инклюзивного образования [Макеева, 2020]). В зарубежных исследованиях социальная эксклюзия рассматривается также с различных сторон, однако прежде всего в центре внимания ученых находятся проблемы бедности, неблагополучия, асоциальности [Azmat, 2020; Buhr, 2008]. В самом общем виде социальную эксклюзию можно определить как «многомерный кумулятивный процесс, нару- шающий социальные связи индивидов или групп и препятствующий их участию в жизни общества» [Макеева, 2020, с. 53].
Социальная эксклюзия описывается также с точки зрения причин, они разнообразны, зачастую взаимосвязаны и имеют как объективный, так и субъективный характер.
Социально исключенными (СЭ) являются люди, подвергшиеся насилию (психологическому, физическому), независимые, склонные к суицидальному поведению, бездомные, инвалиды, с ограниченными возможностями здоровья, мигранты, преступники, родители-одиночки, маргиналы, сельское население, пожилые люди и др. [Панкратова, 2021, с. 213]. Данные категории лиц полностью или частично исключены из жизни социума, а следовательно, им недоступен широкий спектр социальных услуг, а также они исключены из сферы трудоустройства, медицины, образования, культуры.
Социальная инклюзия трактуется в большинстве работ как включение человека в общество, активное взаимодействие, функционирование в определенной социальной роли (см., напр.: [Макеева, 2020, с. 53]) или как «демократическая акция, благодаря которой индивид или группа включаются в широкое общество и приобщаются к определенному действию, культурному процессу» [Ярская,
Ярская-Смирнова, 2015, с. 136]. Конкретные шаги, практики осуществления процесса социальной инклюзии подробно описаны в сфере социальной работы, в частности, для таких категорий, как мигранты, инвалиды, пожилые люди (см., напр.: [Антонова, 2013]).
Таким образом, социальная эксклюзия и социальная инклюзия – это разнонаправленные процессы. Социальная инклюзия предполагает включение определенного лица (лиц) в социальные отношения, а эксклюзия, в отличие от нее, направлена не во внутрь чего-то, а за его пределы и означает исключение определенного лица (лиц) из социальных отношений в различных сферах.
В качестве признаков социальной эсклю-зии ученые называют ограниченность / отсутствие доступа к ресурсам, невозможность / неспособность преодоления ограничений, дискриминацию, распространенность по различным сферам социальных отношений (см.: [Тихонова, 2002]).
Изучение отражения социальной эксклю-зии – инклюзии в языке на сегодня характеризуется фрагментарностью. Так, в Словакии в Университете им. Я.А. Коменского разрабатывается научная тема «Социальная инклюзия через повышение языковой культуры», в частности с позиций ксенолингвистики описываются коммуникативные стратегии дискурса эксклюзии как способы социального отчуждения и неприятия [Кожарнович, 2020]. В большей степени в зарубежной лингвистике проблема социального исключения – социального включения разрабатывается в аспекте многоязычия, что вполне объяснимо современными миграционными процессами. В частности, Эми Оцудзи и Аластер Пенникук (Технологический университет, Сидней, Австралия) рассматривают социальную инклюзию в связи с проблемой двуязычия и многоязычия, обращая при этом особое внимание на роль культуры и менталитета, социальную инклюзию авторы называют «новым мультикультурализмом» [Otsuji, Pennycook, 2011].
Другим направлением изучения рассматриваемых понятий в зарубежной лингвистике является их характеристика в рамках теории и практики коммуникации. Например, профессор университета Мангейма (Германия) Вернер Каллмайер описывает языковые процессы социальной интеграции и исключения в связи с проблемой ксенофобии и выделяет в коммуникации социальные стереотипы, социальные предубеждения и различные формы социальной дискриминации [Kallmeyer, 2002].
В отечественной лингвистике проблема выражения в языке категорий социального исключения и включения разработана в меньшей степени. Так, в работах Л.Г. Лапиной рассматривается функционирование понятия инклюзии в немецкоязычном общественном дискурсе на материале текстов различной направленности [Лапина, 2017]. Отдельные исследования посвящены изучению языка остракизма, в частности Л.М. Григорьевой на языковом уровне прослеживаются различия интенсивности переживания опыта социального исключения (разница в объеме слов и предложений, количественном соотношении глаголов, словарном разнообразии между группами текстов с максимальной и минимальной остротой переживания опыта), выделяются глагольные отрицания как вербальная форма проявления социальной эксклюзии [Григорьева, 2022].
В рамках данной статьи остановимся на территориальном параметре социальной экс-клюзии – инклюзии. Как отмечает В.И. Ильин, России присущ феномен глубинки, именно она занимает большую часть территории страны, исключение проявляется в отсутствии соответствующих уровню крупных городов социальных условий: возможностей медицины, связи, развития инфраструктуры, наличия рабочих мест и др. [Ильин, 2010, с. 26].
Особо отметим, что проблема территориального исключения (эксклюзии) и в меньшей степени – социального включения (инклюзии) активно обсуждается также прежде всего в социологической науке, однако исследование закономерностей вербализации территориальной социальной эксклюзии – инклюзии не нашло должного отражения в работах ученых. Нам представляется целесообразным выявить языковые механизмы объективации данных процессов в текстах СМИ, что позволит составить типологию соответствующих языковых средств и способов и тем самым глубже охарактеризовать сложившиеся в обществе представления о данных явлениях.
Материал и методы
Категории социальной эксклюзии – социальной инклюзии, несмотря на противоположность, обнаруживают достаточно тесную взаимосвязь. Так, социальное включение можно рассматривать как процесс преодоления социального исключения. Именно поэтому в большей степени в научной литературе описана категория социальной эксклюзии.
Территориальная социальная эксклю-зия – социальная инклюзия в самом общем виде представлена прежде всего оппозицией «центр – не центр», причем второй компонент данной оппозиции является более структурированным, поскольку именно с ним связаны процессы различного рода социального исключения. В расширенном виде оппозицию «центр – не центр» можно представить следующим образом: центр / город – периферия / село / деревня / глубинка / глушь / захолустье.
Источником материала для нашего исследования послужил Национальный корпус русского языка (далее – НКРЯ) – газетный корпус; используется подкорпус периода с 2011 по 2021 г. (языковой материал 2022 г. еще не нашел отражения в корпусе). Выбор газетных текстов для выявления особенностей вербализации территориальной социальной эксклю-зии – инклюзии обусловлен тем, что именно в данных источниках обсуждается социальнокультурная проблематика как на уровне столиц, так и на уровне регионов.
Нас интересуют единицы, объективирующие второй компонент обозначенной оппозиции – «не центр». В приведенном выше ряду единицы периферия , село , деревня можно назвать немаркированными по отношению к репрезентации понятия социальной эксклюзии, поскольку они не содержат в своем значении непосредственно признака социального исключения. Другие единицы данного ряда – глубинка , глушь , захолустье , напротив, прямо указывают на ту или иную степень территориального исключения из определенных социальных условий (по сравнению с центром / городом), что зафиксировано в словарях.
На указанном фактическом материале устанавливаются контексты употребления ключевых единиц глубинка и глушь, их коллокации (лексема захолустье в силу меньшей частотности в статье не рассматривается). С целью выделения ядерных семантических признаков значения лексем проводится дефи-ниционный анализ на основе толковых словарей русского языка. В отдельных случаях используются также данные Русского ассоциативного словаря (далее – РАС).
Анализ примеров из выборки в газетном корпусе НКРЯ позволил выделить ряд семантических признаков, конкретизирующих обозначенные данными лексемами понятия и соответственно группы языковых единиц, объективирующих категории социальной эксклю-зии – социальной инклюзии в территориальном аспекте.
В исследовании были использованы общенаучные методы описания, анализа, синтеза, обобщения и собственно лингвистические методы – структурно-семантического, контекстуального анализа, элементы компонентного анализа.
Результаты и обсуждение
Обратимся к анализу семантики единиц глубинка и глушь на основе толковых словарей русского языка.
Глубинка :
Глубинный, далекий от центра пункт, район (МАС).
Место, находящееся далеко от административного, культурного и т. п. центра (глушь, захолустье) (НСРЯ).
Место, населенный пункт, расположенный вдали от столицы государства или других крупных городов (ТСРЯ).
Как свидетельствуют приведенные толкования, ядерным семантическим признаком единицы глубинка является «пространственное расположение» – большое расстояние от объекта с другими социальными условиями (центр / город).
Глушь (первое значение в словарях имеет отношение к природному ландшафту и определяется через признак труднопроходимости – типа «в глуши чащи»), второе значение:
Место, удаленное от центров общественной и культурной жизни (Ушаков).
Глухое, безлюдное или малолюдное место вдали от крупных населенных пунктов. Место, уда-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ленное от центров общественной и культурной жизни (НСРЯ).
Отдаленное от поселений, пустынное место (МАС).
В определении значения лексемы глушь усиливается признак пространственной и социальной удаленности, что подчеркивают использованные в толковании прилагательные труднопроходимое , удаленное от , малолюдное , безлюдное . Ядерный семантический признак пространственного расположения здесь конкретизируется как «большое расстояние от центра и малочисленность социума».
Лексема глубинка в фактическом материале может выражать территориальную социальную эксклюзию и социальную инклюзию как способ преодоления этой эксклюзии (наибольшее количество словоупотреблений – около 80 % – приходится на актуализацию социальной эксклюзии и около 20 % – инклюзии).
Выборка показала, что семантическое поле понятия «глубинка» образуют ядерные единицы, непосредственно указывающие на удаленность от центра (прежде всего от Москвы и Санкт-Петербурга), в составе которых отмечены единицы определенных групп.
-
1. Хоронимические квалификаторы ( где? ), номинирующие конкретную местность, либо часть страны; в данной группе можно выделить две подгруппы: 1) имеющие отношение к России. Здесь представлены в большей степени прилагательные, образованные от географических хоронимов, в меньшей степени – от административных: северная , ямальская , кубанская , карельская , сибирская , ульяновская , приморская , брянская , пермская , вологодская и др. Наибольшая частотность отмечена у единицы российская (около 80 % в рамках данной подгруппы), встретилось несколько случаев непоследовательного употребления прилагательного русская в аналогичных контекстах; 2) имеющие отношения к другим странам. Здесь представлены прилагательные, образованные от административных хоронимов: британская, тайская, марокканская, австралийская, иранская и др., наибольшая частотность отмечена у единицы американская (около 70 % в рамках данной подгруппы), далее по частотности – китайская (около 10 %). Отметим, что все лексемы этой группы характеризуют
-
2. Субъектные квалификаторы ( кто? ): обычные люди , обычный студент-технарь , обычный маляр , обычная семья , простые люди , простой шахтер , простой рукастый мужик , молодежь (в составе устойчивого сочетания отток молодежи ), люди предпенсионного возраста , пенсионеры , одинокие старики , многодетные семьи , врачи , учителя , выпускники и др., то есть преобладают в целом существительные, называющие представителей разных слоев населения, которые, как правило, включаются в категории, требующие социальной поддержки. Прилагательные простой и обычный при характеристике субъекта (в значении «открытый, бесхитростный, прямой, самый обыкновенный» и др., согласно словарям) еще больше подчеркивают отличие (своего рода удаленность) представителя глубинки от представителя центра. В единичных случаях отмечены нетипичные субъекты – режиссер , скульптор , молодые музыканты:
РУССКОГО ЯЗЫКА
также большую пространственную удаленность различных объектов от центра (страны с большой по протяженности территорией).
-
(1) И прекрасно, что появился такой фестиваль, который привозит в Москву лучшие работы и мэтров, и молодых режиссеров из глубинки (НКРЯ, Новая газета, 2018.12);
-
(2) На первый взгляд эти скульптуры – творения самородка-интуитивиста из глубинки , черпающего вдохновение в национальной культуре Бурятии (НКРЯ, Известия, 2019.01).
Однако в такого рода контекстах, как правило, актуализировано противопоставление: в Москву – из глубинки.
В данной группе выделены также устойчивые обороты выходцы ( выходец ) из глубинки , уроженец ( уроженцы ) глубинки , например:
-
(3) «Уроженцы глубинки , которые удачно “покорили” Москву, но не успели здесь обзавестись якорями в виде недвижимости и семьи, на время пандемии вернулись в родные регионы, чтобы в первую очередь не платить за съемные квартиры», – объясняет Захаров (НКРЯ, Ведомости, 2020.10).
В контекстах, описывающих ситуацию, когда выходцы из глубинки вливаются в неглу- бинку, приведенная конструкция может выражать социальное включение:
-
(4) Пермский край я знаю неплохо: здесь родился, вырос, вышел из глубинки (НКРЯ, Коммерсант, 2020.02) (речь идет о крупном чиновнике).
3. Пространственные квалификаторы
«неопределенно большой» с точки зрения расстояния удаленности, то есть «так далеко, что точно не знаю где»: сочетания с неопределенными местоимениями
где-то
,
где-нибудь в глубинке
, которые еще больше подчеркивают дистанцированность от центра:
-
(5) Если в России «вазовская» классика все еще остается популярным средством передвижения где-нибудь в глубинке , то в странах ЕС это самая настоящая экзотика (НКРЯ, Vesti.ru, 2020.04);
-
(6) Например, в участковой больнице где-то в глубинке врачи стараются не применять подобные лекарства, поскольку эти ампулы физически невозможно будет сдать в указанный период (НКРЯ, Парламентская газета, 2019.11);
В примере (6) наречие там усиливает пространственную удаленность (не здесь). В отдельных случаях косвенно на пространственную удаленность указывает частица даже , которая усиливает разрыв между центром и глубинкой:
-
(7) Их уже практически нигде не используют, даже в глубинке (НКРЯ, lenta.ru, 2017.07) (в данном примере речь идет об отваре ольховых шишек).
Периферия в составе семантического поля обозначаемого понятия включает языковые единицы, непосредственно указывающие на социальную эксклюзию:
1. Квалификаторы категории отрицания : глагольные конструкции с частицей не , отрицательные конструкции в рамках составного именного сказуемого, отрицательные безличные предложения с предикативом нет :
-
(8) С одной стороны – глубинка , поездом не доберешься , надо искать автобус или маршрутку, например, от Абакана, и пилить потом сто с лишним верст (НКРЯ, Новая газета, 2018.10);
-
(9) Временный переход на дистанционное обучение показал, что далеко не все школы в глубинке оказались готовы такому формату (Vesti.ru, 2020.08);
-
(10) – Если потенциальный абитуриент, талантливый молодой человек живет в глубинке , у него нет интернета , но он хочет учиться, что ему делать? (Vesti.ru, 2020.05).
2. Квалификаторы социальных трудностей
, среди которых наиболее употребительными являются единицы с корнем
труд-
(
трудности, трудно
) и лексемы
проблема
,
непростой
,
выживать
, например:
В данной группе частотны конструкции с предикативом нет и с отрицательным глаголом не хватает , выражающими малую степень наличия чего-либо.
Все приведенные примеры напрямую указывают на отсутствие определенных социальных условий в таких основополагающих сферах, как медицина, образование, инфраструктура в целом.
-
(11) Жители городов-миллионников, как правило, не имеют проблем с их получением, трудности обычно возникают у людей из глубинки (НКРЯ, Lenta.ru, 2020.06) (речь в примере идет о получении справки);
-
(12) Задача героинь нового сериала – выжить в родной глубинке , несмотря на все препятствия... (НКРЯ, Известия, 2020.06);
-
(13) Доставить туда из глубинки таких пациентов очень трудно (НКРЯ, Парламентская газета, 2021.12);
-
(14) Жителям глубинки наверное не нужно объяснять, насколько актуальна эта проблема (НКРЯ, Парламентская газета, 2018.07) (речь идет о строительстве дорог);
-
(15) Российская глубинка находится в непростой ситуации. Доходы населения годами в лучшем случае остаются на одном и том же уровне (НКРЯ, lenta.ru, 2019.07).
3. Квантитативные квалификаторы
, указывающие на малую (вплоть до минимума) степень чего-либо: прилагательные
минимальный
,
мизерный
, количественные числительные:
-
(16) По своему правы все: и культурная трагедия огромна, ставшая личной трагедией очень многих; и люди на хоть Донбассе, хоть с мизерной пенсией в нашей глубинке ... – однозначно важнее
любых стен, шпилей и камней (НКРЯ, Парламентская газета, 2019.04);
-
(17) Ерженин пояснил, что минимальные зарплаты получают врачи в глубинке , а максимальные – в учреждениях, где развиты платные услуги (НКРЯ, lenta.ru, 2019.10);
-
(18) А их мама с папой в глубинке дай бог 30 тысяч рублей в месяц получают на двоих, вот и складывается такая невеселая картинка (НКРЯ, lenta.ru, 2017.03).
-
4. Отдельное место занимают случаи, в которых социальная эксклюзия объективируется через прямое противопоставление либо сопоставление двух объектов – центра и не центра:
-
(19) Празднества в столице имели огромный размах, правда, в глубинке российской народ предпочитал отмечать в новогодний вечер память Василия Кесарийского (НКРЯ, Парламентская газета, 2019.12);
-
(20) Мы и для Москвы-то были в то время странные, а для глубинки – тем более (НКРЯ, lenta.ru, 2019.04) (речь в примере идет о музыкальной группе);
-
(21) Кроме того, молодые творческие работники жаждут успеха, признания и славы, и им нередка кажется, что добиться этого в глубинке сложней, чем в крупных культурных центрах (НКРЯ, Парламентская газета, 2018.12);
-
(22) Кем бы Маркелов не стал в скором времени, а достойную работу ему уже обещали подыскать, у Леонида Игоревича появилась прекрасная возможность проявить свои недюжинные таланты в столице России, а не только в глубинке (НКРЯ, Московский комсомолец, 2017.04);
-
(23) – Потому что одно дело Петербург и другое – российская глубинка (НКРЯ, Парламентская газета, 2016.10);
-
(24) Земельные доли рядом с городами-миллионниками стоят неизмеримо выше, чем сельхоз-земля где-то в глубинке (НКРЯ, Новая газета, 2016.10);
-
(25) Пенсии в Москве и глубинке разные и траты разные. В глубинке нужны деньги на дрова. Есть старики, которые, пережив зиму, сразу начинают копить на дрова – около 40 тысяч (НКРЯ, Новая газета, 2017.12);
-
(26) Люди предпочитают оставаться бездомными в крупных городах, а не возвращаться в родную глубинку (НКРЯ, Известия, 2018.02).
В такого рода контекстах в качестве оппозиции глубинке выступают различные номинации центра: столица, Москва, Петер- бург, федеральный центр, крупный культурный центр, города-миллионники, крупные города и др. Ведущими являются конструкции с союзами чем, или, а.
Как показал фактический материал, категорию социальной инклюзии лексема глубинка эксплицирует реже. В контекстах, где эта категория выражена, речь, как правило, идет о возможной социальной инклюзии, поскольку действия направлены в будущее, в качестве языковых средств отмечены конструкции со значением положительной направленности, включения, приближения объекта к определенным социальным условиям (прежде всего в уже названных нами проблемных областях), при этом репрезентативными являются единицы с общим значением повышения уровня чего-либо: глаголы (и отглагольные существительные) изменения – улучшить , развить , расширить , обновить , глаголы поддержки – облегчить , помочь , обеспечить , доставить . В меньшей степени социальное включение выражено как состоявшееся в определенных сферах, зафиксированы глаголы результативного действия проникнуть (данный глагол уже в своем значении содержит признак преодоления), запустить (то есть процесс только начался):
-
(27) Новый вид транспорта позволит не только доставить медикаменты в глубинку , но и обеспечить при этом надлежащие условия их хранения (НКРЯ, Парламентская газета, 2021.02);
-
(28) Сенатор напомнила, что с 1 января прошлого года в стране запущена программа льготной сельской ипотеки, целью которой является улучшение условий проживания в глубинке , развитие населенных пунктов, а также упреждение исхода населения в крупные города (НКРЯ, Парламентская газета, 2021.02);
-
(29) Как новый подход к целевому приему поможет выпускникам школ из глубинки поступить в ведущие университеты страны, выяснила «Парламентская газета» (НКРЯ, Парламентская газета, 2021.02);
-
(30) Это облегчит жизнь охотникам, особенно живущим в глубинке (НКРЯ Парламентская газета, 2020.11);
-
(31) Предложение федеральных и региональных парламентариев улучшить жизнь россиян в глубинке за счет размещения центров прибыли в регионах глава государства счёл вполне уместным (НКРЯ, Парламентская газета, 2019.05);
-
(32) В программу на 2017–2019 годы заложено 5,9 миллиардов рублей, что позволит кардинально обновить облик российской глубинки (НКРЯ, lenta.ru, 2017.11);
-
(33) Отвечая на вопрос, генеральный директор предприятия Николай Подгузов рассказал, что расширение почтовой сети в глубинке и обеспечение безопасности почтальонов ожидается увеличить за счёт новых форматов отделений (НКРЯ, Парламентская газета, 2017.11);
-
(34) Технологии быстрее проникли в глубинку , ускорилось оснащение школ компьютерами и Интернетом (НКРЯ, Парламентская газета, 2021.03).
В фактическом материале нашел отражение определенный стереотип русской культуры в восприятии провинции как чего-то простого, настоящего, неиспорченного, поэтому сочетания русская глубинка , российская глубинка могут нести позитивный смысл, рисуя своего рода идиллическую картинку:
-
(35) Русская глубинка привлекает туристов со всего мира неповторимым колоритом и провинциальным обаянием (НКРЯ, Vesti.ru, 2020.03);
-
(36) Мы решили найти в глубинке спокойное и красивое место на природе, обеспечить его всеми коммуникациями для комфортной жизни и удаленной работы и основать там поселок для семей, которые (как и мы) зарабатывают удаленным трудом (НКРЯ, lenta.ru, 2019.11);
-
(37) При этом известно, что именно российская глубинка богата талантами (НКРЯ, Парламентская газета, 2019.03).
В такого рода контекстах ведущими языковыми средствами являются существительные и прилагательные, выражающие положительную оценку: обаяние , колорит , таланты , неповторимый , спокойный , красивый и др.
Выборка из эмпирического материала показала, что в семантическом поле понятия глушь ядро составляют единицы, непосредственно выражающие заключенные в значении лексемы признаки пространственной и социальной удаленности.
1. Ландшафтные квалификаторы: таежная, лесная, горная, горно-лесная. Единицы данной группы актуализируют в контексте признак труднодоступности как с точки зрения собственно ландшафта – особый рельеф, густая растительность, так и с точки зрения пространственной и социальной удаленности, частотным является прилагательное таежная – около 55 % в рамках выделенной группы, далее лесная – около 30 %:
-
(38) В таежной глуши людей живет мало , но причина пожаров и там – человеческий фактор (НКРЯ, Vesti.ru, 2012.07);
-
(39) «Полицейские считают, что живут в лесной глуши , до Бога высоко, до царя далеко, и никто им никогда ничего не сделает», – считает он (НКРЯ, Новая газета, 2018.06) (речь в примере идет о нижегородской области).
2. Хоронимические квалификаторы
представлены прилагательными двух подгрупп: 1) прилагательные, образованные от административных хоронимов, характеризующих зарубежное пространство (около 60 %):
глушь бразильская
,
мексиканская
,
болгарская
,
французская
,
канадская
,
румынская
,
финская
и др., при этом ведущим семантическим признаком выступает прежде всего значительная пространственная удаленность от центра; 2) прилагательные, образованные от административных хоронимов, характеризующие российское пространство (около 40 %):
глушь тверская
,
псковская
,
ярославская
,
пермская
,
костромская
,
рязанская
,
вятская
; распространены также контексты с точным наименованием населенного пункта (ойконимы):
Особо отметим, что в РАС наиболее частотной реакцией на стимул «глушь» является «лесная».
-
(40) В деревне Стрельчиха, в глуши Тверской области... (НКРЯ, Комсомольская правда, 2018.01).
-
3. Дескриптивы, актуализирующие признак труднопроходимости , малой доступности чего-либо, большой удаленности, причем как с точки зрения отсутствия чего-либо значимого (например, дорог), так и с точки зрения отсутствия соответствующих социальных условий: непролазная , дремучая , унылая , партизанская , бездорожная, отменная (в значении усиления), дикая , страшная , чудовищная . Особо выделим контексты с высшей степенью представленности обозначаемого признака – абсолютная , настоящая :
-
(41) При этом он шел в абсолютной глуши , там, где едва ли одна машина проезжает за день: с одной стороны, леса, болота, с другой – море (НКРЯ, lenta.ru, 2019.10);
-
(42) Всё свое детство, лет до 16, Люся провела в настоящей деревне – не видела автомобилей, не знала, что такое телефон, в общем, жила в настоящей глуши (НКРЯ, Известия, 2018.01).
В примерах (41), (42) высшая степень проявления названного признака передана через указание на отсутствие в данной местности людей, благ и описание окружающего ландшафта (дикая природа).
Прилагательные, выступающие как дес-криптивы, имеют, как правило, ярко оценочный характер, преобладает негативная оценка. В отдельных случаях (они немногочисленны) в контексте может быть выражена положительная оценка: живописная , прекрасная , пасторальная , нетронутая ; в такого рода контекстах признак малолюдности и трудно-доступности оценивается положительно по сравнению с центром / городом; этим мотивировано появление таких контекстов, как предпочитаю глушь (то есть не многолюдный шумный город).
Группа дескриптивов нашла отражение в РАС (наиболее полно по сравнению с другими группами), приведем в порядке убывания (исходя из частотности больше 1) реакции на стимул «глушь»: непроглядная , непролазная , темная , непроходимая , полная , Тмутаракань , то есть ассоциации связывают данное понятие прежде всего с труднодоступностью и удаленностью.
В отличие от семантического поля «глубинка», в семантическом поле «глушь» лексемы, вербализующие субъекта, не составляют отдельной группы. В единичных случаях субъект обозначен обобщенным существительным житель ( ница ), жители либо именем собственным (онимом):
(43) В Торопецкую глушь семья Тукалевских (глава семейства, его жена, семеро детей и сестра) перебрались, как сами говорят и верят, по воле Божией в 1992 году (НКРЯ, Комсомольская правда, 2013.05).
4. Пространственные квалификаторы большой с точки зрения расстояния удаленности: прилагательное далекий (и произ- водные), обороты с местоимениями где-то (неопределенность подчеркивает признак удаленности), интенсификаторы такая, самая, какая. Местоимение такая актуализирует признаки труднопроходимости и удаленности, в сочетании с прилагательными, обозначающими свойства, состояние, оценку и т. п. употребляется для выражения сильной степени названного свойства, состояния или для усиления оценки. Местоимение самый указывает на крайний предел качественного признака – в данном случае также труднодоступно-сти и удаленности. Языковая единица какая эмоционально усиливает протяженность и отсутствие определенных условий:
-
(44) – Месторождения Западной Сибири истощаются... и проект создал бы уникальный транспортный коридор всепланетного масштаба... но достаточно представить, какой там рельеф, климат, какая там глушь , чтобы понять – «завтра» не осилим (НКРЯ, Комсомольская правда, 2012.03);
-
(45) Машина приезжает в какую-нибудь деревушку – обычно это где-то в глуши , подальше от глаз (НКРЯ, Новая газета, 2019.07);
-
(46) Но дома находились где-то на хуторе, в далекой глуши , инфраструктуры никакой не было... (НКРЯ, lenta.ru, 2017.02);
-
(47) Порой находятся они в такой глуши , что не каждый турист доберется (НКРЯ, lenta.ru, 2015.12) (речь в примере идет о памятниках);
-
(48) ...Мы по разбитой дороге едем в самую глушь (НКРЯ, lenta.ru, 2019.09).
Языковые единицы, составляющие периферию поля «глушь» актуализируют прежде всего процесс социальной эксклюзии.
1. Глаголы социально обусловленного перемещения , причем данное перемещение может быть противоположно направленным. В большинстве случаев передано направление из центра к не центру: глагольные единицы скрыться , сбежать , спрятаться , перебраться , рвануть , которые подчеркивают невозможность, либо нежелание в силу разных причин находится внутри социума, тем самым указывая на процесс социальной экс-клюзии. Например:
-
(49) В «Эпидемии», снятой по роману Яны Вагнер «Вонгозеро»... главные герои решают сбежать в глушь , хотя борьба за выживание начинается еще до пересечения МКАД (НКРЯ, Ведомости, 2019.12);
-
(50) У сбежавших в глушь россиян захотели отобрать детей из-за нищеты. Однако в глуши семью тоже отыскали и прислали письмо из суда с решением ограничить родителей в правах... (НКРЯ, lenta.ru, 2019.10);
-
(51) ... моя мама в потертом пальтишке и косынке работницы скрывалась со мной под чужим именем в провинциальной глуши (НКРЯ, Новая газета, 2016.01);
-
(52) – Интересно, что один из участников конфликта – Шляфман уехал в Израиль, сменив фамилию на Высоцкого, а другой спрятался в глуши и тоже изменил имя, – рассказала вдова Талькова Татьяна (НКРЯ, Комсомольская правда, 2018.11).
Противоположно направленное перемещение представлено частотным выражением вырваться из , в данном случае мы можем говорить о направленном в будущее процессе преодоления социальной эксклюзии:
-
(53) Единственным реальным шансом вырваться из глуши была армия, но Валентино даже в нее не взяли – военным не понравилось его субтильное телосложение (НКРЯ, lenta.ru, 2018.03) (речь в примере идет об актере немого кино Рудольфе Валентино).
В рамках рассматриваемой группы отдельно следует выделить языковые единицы, выражающие перемещение субъекта как сознательный выбор, в такого рода случаях представлено особое восприятие глуши как места, далекого от цивилизации, в контексте оппозиция «крупный город – глушь» может быть актуализирована через глагольные единицы покинуть , променять – жить , ехать :
-
(54) Каждый житель мегаполиса хотя бы раз в жизни мечтал навсегда покинуть город и поселиться в глуши , чтобы выполнять простую работу, потреблять только натуральную пищу, дышать полной грудью и не думать ни о чем лишнем (НКРЯ, lenta.ru, 2019.03);
-
(55) Многие, как, например, путешественник из Воронежа Андрей Соловьев, который уже больше 100 дней живет в якутской глуши , уходят в длительные походы, в которых приходится рассчитывать только на себя (НКРЯ, lenta.ru, 2016.11);
-
(56) Живописные кочевья каракалпаков, суровая красота пустыни Кызылкум, развалины древних городов настолько его пленили, что он решил променять Москву на эту чудовищную азиатскую глушь (НКРЯ, lenta.ru, 2016.04);
-
(57) Обеспечив себя и потомков на три поколения вперед, вдруг едут в глушь , за копейки берут
развалившийся колхоз и пытаются «поднять село». (НКРЯ, Комсомольская правда, 2013.09).
-
2. Квалификаторы категории отрицания : частотны глагольные конструкции с частицей не , единичными употреблениями представлены отрицательные безличные предложения с предикативом нет . Например:
-
(58) Мне надо было ехать в ужасную глушь – туда, кроме как на поезде, никак не доберешься (НКРЯ, Труд-7, 2018.08);
-
(59) Никто не хочет работать в глуши за копейки (НКРЯ, Известия, 2018.09);
-
(60) 69 % семей получают земли в глуши , где нет школ и поликлиник (НКРЯ, Новая газета, 2017.07).
3. Дейктические единицы.
Отметим, что мы исходим из самого общего понятия дейксиса: дейктический, то есть указывающий, выделяющий, дифференцирующий посредством соотнесения. В данную группу входят языковые единицы и выражения, указывающие на что-либо, имеющее непосредственное отношение к обозначаемому понятию (другими словами «атрибуты» глуши, в ряде случаев ставшие стереотипами). Как правило, это именные сочетания:
дикая природа
,
разбитые дороги
,
редкие гости
,
заброшенный дом
,
Нива-Шевроле
(как машина для плохих дорог) и др. Отмечены также устойчивое сочетание
медвежий угол
и прецедентный текст
глушь почище Шервудского леса
(прием аллюзии отсылает нас к непроходимым лесам – месту обитания Робин Гуда).
В отличие от аналогичной группы в рамках семантического поля «глубинка», данная группа не является репрезентативной в фактическом материале.
Социальная эксклюзия может объективироваться, как мы уже отмечали, рассматривая понятие «глубинка», через противопоставление, либо сопоставление центра и не центра. Однако понятие «глушь» в такого рода контекстах эксплицируется редко. В немногочисленных примерах представлена оппозиция столица – глушь , либо город ( большой , шумный ) – глушь ( тихая , сельская ); социальная эксклюзия выражена конструкцией « из – в », при этом субъект в большинстве случаев перемещается не по собственной воле, а в силу обстоятельств:
-
(61) Затем меня как священника перевели из города в глушь , и я решил, что это самое подходящее место для моих планов (НКРЯ, lenta.ru, 2019.10);
-
(62) Это главным образом дауншифтеры, в свое время перебравшиеся из больших городов в провинцию или даже сельскую глушь (НКРЯ, lenta.ru, 2017.03);
-
(63) Из столицы в деревенскую глушь вынуждена была перебраться москвичка, вдова ветерана войны (НКРЯ, Vesti.ru, 2015.10);
-
(64) С другой стороны, теперь у нее есть собственный дом, расположенный не в шумном городе, а в тихой сельской глуши (НКРЯ, lenta.ru, 2015.07);
-
(65) На их взгляд, человек, укативший из столицы в глушь , либо в чем-то провинился, либо что-то украл и теперь вынужден прятаться (НКРЯ, Труд-7, 2010.11).
В примере (65) нашел отражение определенный стереотип – в глуши можно спрятаться.
Случаи актуализации понятия социальной инклюзии представлены в эмпирическом материале, в отличие от аналогичных случаев экспликации понятия «глубинка», единично:
-
(66) В таежную глушь пришли самые передовые технологии (НКРЯ, Новая газета, 2016.10).
В таких контекстах речь идет преимущественно о приобщении жителей данной местности к информационным технологиям.
Особо следует отметить востребованность в эмпирическом материале прецедентного текста В деревню, в глушь, в Саратов (прием аллюзии):
-
(67) Не пора ли «в глушь , в Саратов» (где новое жилье в среднем стоит, кстати, всего 1,7 миллиона рублей)? (НКРЯ, lenta.ru, 2017.07);
-
(68) В них нет этого страха – быть выкинутыми в глушь , в Саратов. (НКРЯ, lenta.ru, 2017.05);
-
(69) В глуши , в деревне, в Саратове ничего не изменилось (НКРЯ, lenta.ru, 2018.10).
Зафиксирован также единичный пример с другим прецедентным текстом (А.С. Пушкин «Евгений Онегин»):
-
(70) В глуши забытого селенья: Большой театр приблизился к природе (НКРЯ, Известия, 2019.05).
Список литературы Особенности объективации категорий социальной эксклюзии - социальной инклюзии в русском языке (на примере понятий «глубинка» и «глушь»)
- Антонова В. К., 2013. Концепты социальной инклюзии и эксклюзии в глобальном обществе: дрейф по социальным институтам, акторам и практикам // Журнал исследований социальной политики. Т. 11, .№ 2. С. 151-170.
- Григорьева Л. М., 2022. Глагольные отрицания - вербальная форма проявления социальной экск-люзии // Вестник Московского государственного областного университета. N° 2. С. 157-166. DOI: 10.18384/2224-0209-2022-2-1096
- Дмитриева А. В., 2012. Социальное включение/исключение как принцип структурации современного общества // Социологический журнал. № 2. С. 98-114.
- Ильин В. И., 2010. Российская глубинка в социальной структуре России // Журнал социологии и социальной антропологиии. Т. XIII, № 4. С. 25-47.
- Кожарнович М. П., 2020. Коммуникативные стратегии дискурса эксклюзии // Идеи. Поиски. Решения: сб. ст. и тез. XIV Междунар. науч.-практ. конф. В 5 т. Т. 1. Минск: БГУ С. 67-74.
- Лапина Л. Г., 2017. Понятие инклюзии в немецком общественном дискурсе // Социо- и психолингвистические исследования. № 5. С. 89-92.
- Макеева И. А., 2020. Социальная эксклюзия и инклюзия в контексте образования: сущность и подходы // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 198. С. 45-55. DOI: 10.33910/1992-6464-2020-198-45-55
- Панкратова Л. Э., 2021. О концептах «социальная инклюзия» и «социальная эксклюзия» в социальной работе // Социальная работа и социальная политика в условиях меняющейся архитектуры социального государства: материалы Всерос. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. С. 212-218.
- Ребрина Л. Н., Шамне Н. Л., 2020. Системно-коммуникативные измерения современного протеста (на материале немецкоязычных онлайн-петиций) // Научный диалог. № 3. С. 151-167. DOI: 10.24224/2227-1295-2020-3-151-167
- Тихонова Н. Е., 2002. Социальная эксклюзия в российском обществе // Общественные науки и современность. № 4. С. 5-17.
- Ярская В. Н., Ярская-Смирнова Е. Р., 2015. Инклюзивная культура социальных сервисов // Социологические исследования. № 12. С. 133-140.
- Azmat F., 2020. Social Exclusion and Social Inclusion // No Poverty / ed. by W. Leal Filho, A. M. Azul, L. Brandli, A. Lange Salvia, P. Gökgin Özuyar, T. Wall. Cham: Springer. P. 1-10. DOI: 10.1007/ 978-3-319-69625-6_50-1
- Buhr P., 2008. Ausgrenzung, Entgrenzung, Aktivierung: Armut und Armutspolitik in Deutschland // Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. Wiesbaden: Springer Science+Business Media. P. 199-218. DOI: 10.1007/978-3-531-90821-2_9
- Kallmeyer W., 2002. Sprachliches Verfahren der sozialen Integration und Ausgrenzung // Fremdbilder -Feindbilder - Zerrbilder / Hrsg. K. Liebhart, E. Menasse, H. Steinert. Klagenfurt: Drava. S. 153-181.
- Otsuji E., Pennycook A., 2011. Social Inclusion and Metrolingual Practices // International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Vol. 14, iss. 4. P. 413-426. DOI: 10.1080/13670050.2011. 573065