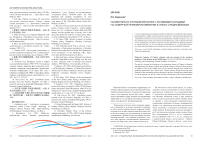Особенности отношений Китая с кочевыми народами на северной периферии империи в эпоху Средневековья
Автор: Баринова Елена Борисовна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 1 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению важной особенности китайской цивилизации, проявившейся в сфере этнокультурных контактов с некитайскими народами на территории Северного Китая в эпоху средневековья, которая состояла в том, что все привнесенное извне постепенно китаизировалось. Сама китайская культура хотя и перенимала отдельные элементы культур окружающих народов в процессе взаимодействия, но так оптимально адаптировала их к собственной среде, что через короткое время они становились уже частью китайской традиции.
Китай, кочевники, этнокультурные контакты, культура, адаптация, средневековье
Короткий адрес: https://sciup.org/170175479
IDR: 170175479 | УДК: 94(5)
Текст научной статьи Особенности отношений Китая с кочевыми народами на северной периферии империи в эпоху Средневековья
Политика Китая в отношении окружающих его кочевых народов, прежде всего Центральной Азии, значительно различалась в отдельные исторические эпохи, хотя стратегия всегда быта одна - максимально расширить сферу влияния на окружающие территории и в то же время обезопасить население своего государства от внешней агрессии1.
На начальном этапе Китай решал эту задачу, стремясь отдалить кочевников от своих границ и максимально оградиться от их проникновения. С этой целью при династии Цинь была построена Великая китайская стена, а при династии Хань создана укрепленная линия. Однако защита границ с использованием оборонительных сооружений требовала больших материальных затрат и не приносила желаемых результатов. Тогда политика в отношении кочевников была пересмотрена. В правление ханьского императора У-ди была использована новая тактика борьбы с кочевниками. В 119 г. до н.э. военачальник Хо Цюйбин (140-117 гг. до н.э.) переселил к укрепленной линии в пяти округах - Шангу, Юйян, Юбэйпин, Ляодун и Ляоси - часть коче-
* БАРИНОВА Елена Борисовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.
вого народа ухуаней2, которые традиционно находились во враждебных отношениях с сюнну.3 Их задачей было следить за передвижениями кочевых народов на приграничных территориях. Переселение ухуаней было произведено не собственно на китайские земли, а к укрепленной линии, и потому его еще нельзя рассматривать как появление кочевников на территории Китая. В период же правления ханьского императора Сюань-ди (74-49 гг. до н.э.) началось переселение кочевников непосредственно в Китай. В 51 г. до н.э. шаньюй4 сюнну признал себя слугой китайского императора, а династия Хань в ответ выделила для сюнну северную часть области Бинчжоу (северные районы современных провинций Шаньси и Шэньси). В итоге более 5 тыс. сюннуских юрт появились во входивших в эту область округах, в т.ч. в округе Шофан (на территории современного Автономного района Внутренняя Монголия), и стали жить смешанно с ханьцами [9, с. 151].
Следующее крупное переселение произошло в начале Поздней Хань. Оно было связано с тем, что в 48 г. среди сюнну произошел раскол, в результате чего они разделились на северных и южных. Южные сюнну выразили покорность китайскому императору и стали защищать границы Хань от набегов северных сюнну. Численность сюнну, оказавшихся на китайских землях, быстро росла, в основном за счет пленных, захватываемых в войнах с северными сюнну, а также перебежчиков [10, с. 13]. В начале правления цзиньского императора У-ди (265-290 гг.) в связи с сильным наводнением более 20 тыс. юрт явилось в Китай, и им было указано жить под уездным городом Иян, лежавшим в 70 ли к юго-западу от современного Лояна в провинции Хэнань. В 308 г. предводитель сюнну Лю Юань объявил себя императором, а его преемник Лю Цун взял через три года столицу империи Цзинь и захватил в плен Сына Неба.
Помимо ухуаней и сюнну на территории Северного Китая проживали и другие кочевые племена: цзе5, сяньбийцы6, дисцы и цяны7. Их появление на китайских землях, так же, как и появление сюнну, было связано, во-первых, с политикой переселения, проводимой китайским двором с целью использования изъявивших покорность кочевников в борьбе с внешними врагами, а во-вторых, с вооруженными вторжениями, которые совершали кочевые соседи Китая в периоды его ослабления. Непосредственной причиной, положившей начало периоду правления на территории Китая почти двух десятков государственных образований кочевников, явилась борьба за власть, происходившая при дворе династии Цзинь.
Цзе появляются на исторической арене Китая в период с 304 г. по 439 г. На территории Китая они основали царство Поздняя Чжао (319-351 гг.). Сяньбийцы, относившиеся к монголоязычной группе народов, делились на племена, из которых наиболее сильными были мужун (муюн)8 и тоба (табгачи)9. Племя тоба создало династию Северная Вэй (386-556 гг), которая в дальнейшем сумела объединить под своей властью весь Северный Китай. Дисцы явились создателями династий Ранняя Цинь (351-394 гг.) и Поздняя Лян (385— 403 гг). Цяны создали династию Поздняя Цинь (384-417 гг).
Таким образом, в Восточной Азии начиная с III в. часть сюнну, цзе, сяньби, ди, цяны и другие ближайшие соседи древних китайцев начали постепенно перемещаться на Среднекитайскую равнину. Под давлением кочевников в 316 г. китайская власть на центральной равнине на длительный период перестала существовать. Следующие полтора столетия для С еверного Китая были периодом постоянной смены кочевых племен, приходивших с северных и западных территорий. Основываясь на данных письменных источников, В.С. Таскин произвел примерный подсчет количества кочевого и оседлого населения, проживающего единовременно на территории Северного Китая в IV в. Общая численность кочевников составляла 200 тыс. юрт, или 1 400 000 чел. Численность оседлого населения, представленного китайцами, по приблизительным подсчетам, составляла 1 450 000 чел., те. примерно равнялась кочевому населению [10, с. 14-15].
Проблема этнокультурных контактов с некитайскими народами, проживавшими на территории Китая в период раннего средневековья, выявляет важную особенность китайской цивилизации, заключающуюся в том, что все привнесенные извне элементы постепенно адаптируются, китаизируются и становятся элементами собственно китайской культуры. С другой стороны, например, правление сяньбийцев, как и других степных народов, вторгавшихся на север Китая, оказало существенное воздействие на формирование единого китайского этноса в период раннего Средневековья. Впитав в себя инородные компоненты, восприняв многие первоначально чуждые ей элементы культуры, общность древних китайцев не могла не претерпеть существенных изменений. Китайский этнос начала II тыс. уже значительно отличается от своих прямых предков ханьского периода.
Описанные тенденции нашли свое проявление в том числе и в материальной культуре. Все исследователи единодушны во мнении, что седло жесткой конструкции с укрепленными на нем стременами было изобретением народов востока Евразии. Но вопрос о том, к какому времени относится его появление, до сих пор остается дискуссионным. Согласно одной точке зрения, металлические стремена впервые появились у центральноазиатских сюнну на границе нашей эры [6, с. 307-308]. С.В. Киселев и Л.Р. Кызласов полагали, что в Центральной Азии и Южной Сибири стремена распространились не позднее III в. н.э. [5, с. 517; 10, с. 140].
Рассматривая проблему генезиса стремян, С.И. Вайнштейн высказал другое предположение. Он обратил внимание на обнаруженные в Чанша погребальные статуэтки начала IV в., среди которых представлены оседланные лошади. В этой связи С.И. Вайнштейн предположил, что данная деталь седла - еще не стремя, но уже его праоб-раз - «подножка», служившая для подъема на лошадь. С.И. Вайнштейн считает, что изобретение жесткого седла и стремени следует датировать VI в., связывая их появление с древними тюрками [3]. Однако А.К. Амброз указал на то, что в погребениях второй половины IV в. на территории Кореи уже встречаются парные деревянные стремена, обитые жестью или листовой медью [1, с. 83]. Археологические находки, сделанные в Китае, подтверждают эту точку зрения. В погребении № 7 первой четверти IV в. в Сяншане близ Нанкина в 1970 г. была обнаружена статуэтка, изображающая оседланную лошадь со стременами, прикрепленными с обеих сторон седла. Исходя из этого можно предположить, что первоначальное распространение седла такого типа в Северном Китае относится, вероятнее всего, к концу III в.
В Китае III-VI вв. распространение получает нетрадиционная для этого региона манера сидеть, обусловленная использованием так называемых варварских сидений. Упоминания о них встречаются в исторических источниках и позволяют в общих чертах восстановить типичные обстоятельства их применения, в основном в походных условиях или в неофициальной обстановке. Они не были частью постоянного интерьера жилища. Другой особенностью «варварского сидения» было то, что на нем мог поместиться только один человек. Принципиальное отличие такого сидения от традиционного китайского топчана заключа- лось в манере, в которой на нем сидели: не поджав ноги под себя, а свесив их вниз. Мы не располагаем непосредственными указаниями на то, как выглядело «варварское сидение» в III—VI вв., и имеем лишь описание, относящееся к XII в.: «Варварское сидение имеет шарнир, благодаря которому его ножки могут перекрещиваться. Оно затянуто веревкой, так чтобы на нем было удобно сидеть. Оно мгновенно складывается и весит всего несколько цзиней» [7, с. 127]. Это описание «варварского сидения» свидетельствует о том, что оно аналогично складным креслам, которые были широко известны в Древнем Риме. Возможно, они проникли в Китай из стран Западного края, испытавших влияние культуры эллинизма.
В VI в. «варварские сидения», первоначально употреблявшиеся исключительно вне дома, стали использоваться на Севере Китая уже как элемент интерьера жилища, в т.ч. и в парадной дворцовой обстановке. Постепенно манера сидеть, свесив ноги, перестанет рассматриваться в Китае как нечто необычное и противоречащее нормам приличий. Распространение «варварских сидений» предвосхитило появление в интерьере китайского жилища стульев.
Еще более отчетливо, чем на жилище и связанных с ним бытовых привычках, этнические процессы III-VI вв. отразились на такой важной составной части материальной культуры древних китайцев, как пища. В рацион северян были включены прежде чуждые древним китайцам молочные продукты - простокваша, сыр и масло.
Важнейшим результатом миграций кочевников было распространение двуязычия. Однако правильное усвоение языка нового места обитания оказалось уделом лишь немногочисленной верхушки. Большая часть инокультурных народов могла изучать китайский язык на слух и пользоваться им по собственному разумению в условиях, когда китайское население в местах их проживания зачастую составляло меньшинство. Такая ситуация не могла не привести к возникновению креолизованных вариантов китайского языка.
Область распространения современного северокитайского диалекта охватывает ту же северную часть провинции Хэбэй, а также Шаньси, Шэньси, Нинся, что и область расселения сюнну в эпоху Хань и в III-VI вв. Границы этой лингвистической области датируются началом новой эры, и язык сюнну был тем лингвистическим суперстратом, на основе которого сформировался далекий предшественник современного северного диалекта. Именно в Северном Китае возникло значительное количество нововведений в китайском языке, ко торые в дальнейшем распространились на юг вместе с китайскими переселенцами.
Начиная с VI в. в Китае прослеживается интенсивное культурное взаимодействие с тюркскими народами. Важным показателем интенсивности контактов и распространения языка тюрок среди китайцев является составление в тайскую эпоху тюркско-китайского словаря [13, с. 191].
В период правления династии Тан (618-907 гг.) был достигнут синтез политических культур, который стал основой стабилизации китайского общества. Многие черты управления тайской империей сформировались под влиянием политической практики некитайских государств в период 220-581 гг. и были привнесены тюрками [11]. Серьезный шаг в становлении тайской империи как цивилизационного китайско-центральноазиатского центра был сделан в 630 г, когда император Тай-цзун в присутствии представителей племенных конфедераций восточных и западных тюрок принял титул Небесного кагана, что фактически ознаменовало установление номинального сюзеренитета китайского императора над тюрками. На территории проживания уйгуров, дансянов, туюхуаней, отнесенных к округу Гуаньнэй, было создано 29 губернаторств и 90 областей. Земли тюрок-туцзюэ, си, мохэ были включены в округ Хэбэй и составили 14 губернаторств и 46 областей. Создание этих территориальных структур давало возможность в дальнейшем расширить территорию влияния. Создавая области и губернаторства в приграничных землях, танское государство выполняло функции защиты некитайских племен, живших на этих территориях, не силами регулярных войск, а с помощью племен, изъявивших покорность Китаю. Для китайской стороны такая политика объяснялась необходимостью предотвратить появление в регионе сильных государственных образований и, в то же время, закрепить контроль над Шелковым путем, проходившим через расположенные в бассейне р. Тарим государства-оазисы Центральной Азии.
В 634 г, когда Западно-Тюркский каганат, территории которого распространялись от нынешней провинции Ганьсу до Сасанидского Ирана и от Алтая до Кашмира, раскололся на два племенных союза, китайский император добился его объединения под властью одного из племенных союзов, изъявивших покорность Китаю. В середине VII в. были завоеваны и другие центральноазиатские территории: Гаочан на северо-востоке современного Синьцзяна, Яньци (Карашар) на юго-западе Турфанской низменности, Гуйцы (Куча) на западе. Покорность императору изъявили Кашгар, Хотан и Яркенд. Таким образом, к середине VII в. территория Китая расширилась на севере до рек Селенга и Орхон, а на западе до Тянь-Шаня. Частью империи были также объявлены земли кыргызов.
В то же время были сделаны неудачные попытки создать свои уезды на территориях других центральноазиатских государств - Чача, Ферганы, Кашгара, Тохаристана, Кашмира и др.
Правда, активных военных действий в результате провозглашения китайского протектората над центральноазиатскими территориями не последовало. Хотя реальной власти Китай над этой территорией не имел, все же контакты развивались достаточно активно.
Наиболее заметным в плане этнокультурных взаимодействий кочевых народов Центральной Азии с населением Китая периода, начавшегося с эпохи Тан (618-907 гг), является проникновение и адаптация предметов материальной культуры: жилищ, конской упряжи, одежды. Причем показательно не столько наличие этих предметов в китайских археологических комплексах, сколько внедрение пришлых традиций в местную культуру, которое проявляется в элементах смешанности. Сначала импортные предметы распространяются в виде готовых изделий и являются доступными только для верхушки местного общества. По мере того, как они входят в моду или же оказываются удобными для практического применения, местные мастера начинают пытаться копировать эти импортные предметы, используя весь комплекс местных традиционных навыков труда, что ведет к появлению «гибридных» по внешнему виду форм. При этом, естественно, сохраняется и производство традиционных местных изделий. Таким образом, в данном случае происходит частичное нарушение прежней устойчивости местного производства в его внешних проявлениях за счет привнесения в местную среду импортных традиций. Например, эпохой Первого Тюркского каганата датируются находки китайских статуэток, изображающих верблюда с нагруженной на него поклажей, состоящей из основных деталей юрты. Это может свидетельствовать о том, что юрты использовались в быту и были достаточно популярны.
Стремена и седла «древнетюркского» типа в VII-XI вв. можно увидеть на многочисленных изображениях, найденных на территории Китая, например, на барельефах из гробницы императора Тай-цзуна или на погребальных статуэтках и фресках танского времени из богатых захоронений в районе Чанъаня. Впоследствии именно через Китай такой тип седел распространится далее по Восточной Азии вплоть до Японии.
Известно, что именно тюркские народы в эпоху Тан были главными поставщиками лошадей. В первые годы правления этой династии китайский принц лично явился в ставку к тюркскому кагану с богатыми дарами и получил в ответ табун лошадей. С середины VIII в. на рынке коневодства главенствовали уйгуры. В последние десятилетия VIII в. цена уйгурской лошади составляла сорок штук китайского шелка.
Определенное влияние на материальную культуру Китая оказала и одежда кочевников. Причем элементы кочевнического костюма можно наблюдать не только у представителей пришлых народов, но и в облачении самих китайцев. Шэнь Ко, живший в XI в., писал, что для костюма китайцев стали характерными: «Короткие куртки малинового и зеленого цвета с узкими рукавами, высокие сапоги, пояса со свешивающимися ремешками - все это атрибуты варварской одежды». В тайскую эпоху получили распространение халат с широкими отворотами-лацканами, подпоясанный ремнем (одежда кочевников), и «варварские» шапки. В эпоху Суй (581-618 гг.) принадлежностью официального китайского костюма становятся сапоги. Две пары сапог с короткими и длинными голенищами были обнаружены в погребении высокопоставленного чиновника Чжан Шэна 596 г. К XI в. китайский костюм сложился окончательно. «Китайская одежда и головные уборы начиная с династии Северная Ци представляют собой варварский костюм... Узкие рукава удобны для езды верхом, короткая верхняя одежда и высокие сапоги подходят для хождения по траве. В мою бытность на Севере я видел это», -отмечал Шэнь Ко [7, с. 152].
Пояс был важной частью китайского традиционного костюма, поскольку служил маркером положения человека в социальной структуре. С 1 тыс. до н.э. пояса были ткаными. Они представляли собой широкую ленту, концы которой свешивались вниз. В костюме военных пояса имели другой вид, были, как правило, кожаными и застегивались на специальный крючок. Но в первые века н.э. китайцы начинают использовать наборные пояса с пряжками. Предположительно, они заимствовали их у сюнну. Позднее, в III—V вв., у кочевников китайцы заимствуют и пряжки с язычком. Окончательно форма и конструкция пояса, имеющая традиционные китайские и привнесенные функциональные особенности, складывается в эпоху Тан, когда такие пояса стали атрибутом официального костюма.
Важным для реконструкции этнокультурной ситуации в регионах Восточной и Центральной Азии является вопрос об обнаружении изделий из драгоценных металлов и художественных произведений в погребальных памятниках кочевых народов на территории Китая. Большинство могильников на территории Китая, относимых к тюркскому времени и даже содержащих определенные небольшие назывные тюркские надписи, что прямо свидетельствует об их связи с тюркским этносом, лишены богатого художественного убранства. Рядовые вещи, обнаруживающиеся в этих могильниках, в погребальном уборе человека и коня, довольно стандартны. Поэтому появление высокохудожественных ремесленных изделий, преимущественно из драгоценных металлов, является не просто показателем специфики обряда погребения кочевой знати, но и подтверждением крупных исторических событий, связанных с военной активностью тюрок и их крупными политическими объединениями. Наличие этих изделий в погребениях свидетельствует об успешных завоевательных походах, в ходе которых тюркские воины грабили завоеванных и получали с них дань.
Период существования древнекитайских империй Цинь и Хань (III в. до н.э. - III в. н.э.) характеризовался преобладанием консолидационных процессов, приведших к стабилизации этнической общности «людей Срединного государства», - древних китайцев, контакты которых с соседними ко-чевыми этносами носили в целом маргинальный характер. Ситуация резко изменилась в результате процесса переселения кочевников в пределы Срединной империи, когда на территории расселения древнекитайского этноса возник центр интенсивного взаимодействия и трансформации разнородных этнических компонентов. Главной особенностью этой эпохи в истории Восточной Азии было резкое ускорение ассимиляции многих этнических общностей, оказавшихся на территории Северного Китая.
Анализируя особенности этнических процессов периода 1 тыс. н.э., можно утверждать, что с точки зрения общей тенденции развития они представляли собой процесс постепенной синизации некитайских народов. Важнейшей особенностью сложившейся этнополитической ситуации было то, что независимо от каких бы то ни было субъективных моментов, государственно-политическое объединение Северного Китая обеспечило объективные условия и возможности для наиболее тесного взаимодействия и постепенного культурного объединения различных народов империи на основе более древней и высокоразвитой китайской культуры. Сама же китайская культура хотя и перенимала отдельные элементы культур окружающих народов, но так оптимально адаптировала их к собственной среде, что уже через короткое время они становились частью китайской традиции.
Список литературы Особенности отношений Китая с кочевыми народами на северной периферии империи в эпоху Средневековья
- Амброз А.К. Стремена и седла раннего средневековья как хронологический показатель (IV-VIII вв.)//Советская археология. 1973. 1973. С. 81-98.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.; Л.: ИЭ АН СССР, 1950. 382 с.
- Вайнштейн С.И. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры//Советская этнография. 1966. № 3. С. 62-74.
- Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. М.: Наука, 1974. 236 с.
- Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1951. 642 с.
- Кларк Г. Доисторическая Европа. М.: Изд-во иностранной литературы, 1953. 350 с.
- Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М.: Наука, 1979. 328 с.
- Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М.: Изд-во МГУ, 1960. 198 с.
- Материалы по истории кочевых народов в Китае III-V вв. Вып. 1. Сюнну/пер., предисл. и коммент. B.C. Таскина. М.: Наука, 1989. 297 с.
- Материалы по истории кочевых народов в Китае III-V вв. Вып. 2. Цзе/пер., предисл. и коммент. B.C. Таскина. М.: Наука, 1990. 255 с.
- Попова И.Ф. Танский Китай и Центральная Азия//Источники и исследования по истории и культуре Центральной Азии. [Электронный ресурс]: http://www.kyrgyz.ru/?page=264
- Файзрахманов Г. Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии. Казань: Мастер Лайн, 2000. 188 с.
- Хаславская Л.М. О некоторых аспектах этнокультурных контактов кочевников Южной Сибири с Китаем//Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск: Наука СО, 2000. С. 189-195.
- Chavannes, E., 1895. Les mémoires historiques de Se-Ma Ts’ien/Traduits et annotés par E. Chavannes. Vol. 2. Paris.
- Thomas, F.W., 1948. An ancient language of the Sino-Tibetan borderland. London: Oxford University Press.