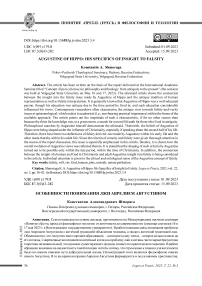Особенности понимания лжи Аврелием Августином
Автор: Шморага К.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие αιρεσισ (ересь) в философии и теологии: от античности до современности
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья написана на основе доклада, прочитанного на Международном научном семинаре «Понятие αιρεσις (ересь) в философии и теологии: от античности до современности» (семинар состоялся 16 и 17 мая 2023 г. в Волгоградском государственном университете). В работе показана связь понимания проблемы лжи Аврелием Августином с античной традицией объяснения человека, а также с античной трактовкой лжи. Общеизвестно, что Августин имел хорошее образование, - античное в силу эпохи, - которое сильно влияло на его взгляды. Современные исследователи античный взгляд на проблему лжи и истины часто характеризуют как теоретико-познавательный, что в рамках существующего подхода лишает его практического значения. В работе обращено внимание на неуместность такой позиции хотя бы потому, что стремление к знанию для античности было во многом поиском пути добродетельной жизни. Иллюстрацией этого являются философские поиски самого Августина. В то же время воззрения Аврелия Августина формируются и под влиянием христианства, особенно во второй половине его жизни. В связи с этим выделено два варианта определения лжи Августином - в ранний и зрелый периоды. Так как в ходе обсуждения доклада особое внимание было уделено вопросу критерия истины и лжи, в статье этой проблеме отведено отдельное место, причем показано, как здесь отразилась общая эволюция взглядов Августина. Утверждается, что у Августина выработка такого критерия оказалась возможной только в поздний, христианский период. Также рассматривается связь понимания человека и Бога в христианстве с пониманием лжи зрелым Августином. Отдельное внимание уделено возникновению этического и онтологического смысла понятия лжи у Августина.
Ложь, воля, грех, бог, человек, шутка, неправда, совершенство природы
Короткий адрес: https://sciup.org/149145054
IDR: 149145054 | УДК: 1(091):179.8 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.3.4
Текст научной статьи Особенности понимания лжи Аврелием Августином
DOI:
Цитирование. Шморага К. А. Особенности понимания лжи Аврелием Августином // Logos et Praxis. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 36–42. – DOI:
Природе лжи Аврелий Августин уделяет немало внимания. Достаточно привести широко известный пример «Исповеди», где, как заметила одна из исследователей [Нере-тина web], Августин не только выполнил, но и перевыполнил задачу рассказа о религиозном опыте: создал ретроспекцию – разгребание завалов души. Сам процесс разгребания Августину удалось связать с разъяснением многих явлений, в том числе и феномена лжи. Также многие исследователи, говоря о понимании лжи Августином, замечают, что он произвел здесь едва ли не переворот, а Е.Е. Несмеянов называет его основателем теории лжи [Несмеянов web]. И действительно, используемое по сей день определение лжи как «сознательное искажение истины, высказанное с целью введения кого-либо в заблуждение», во многом восходит к Аврелию Августину.
Августин, конечно, не первый, кто обращает внимание на проблему лжи. Слова Гераклита Эфесского «многознание уму не научает, иначе оно бы научило Гесиода и Пифагора, равно как и Ксенофана с Гекатеем» [Кессиди 1982, 56] (здесь важно, что в другом месте Гераклит называет Пифагора изобретателем надувательств), а также «мудрость же в том, чтобы говорить истину и действовать согласно природе, осознавая» [Лебедев, Рожанский (ред.), 198] вполне можно понимать как одну из первых известных нам античных оценок, определивших сложность и важность вопроса, вынесших его за пределы прагматического отношения к вещам, а также субъективных предпочтений, и включивших его в границы вопроса об основании бытия.
Позже Платон свяжет существование лжи с заблуждением, которое он определяет как «вследствие несоразмерности… отклонение мысли, когда душа стремится к истине, но проносится мимо понимания… Стало быть, заблуждающуюся душу должно считать безобразною и несоразмерною» [Платон 2007, 349]. По этому поводу Георгий Зяблинцев, ссылаясь на Максима Исповедника, замечает: «Тут имеется известный грамматический нюанс: слово ацар™, используемое Платоном для обозначения заблуждения, буквально означает “промах”, “непопадание в цель”» [Зяблинцев web] 1.
По мнению Аристотеля, «А так как некоторые заботятся больше о том, чтобы слыть мудрыми, чем быть мудрыми и не слыть ими (ведь софистика – это мнимая мудрость, а не действительная, и софист – это тот, кто ищет корысти от мнимой, а не действительной мудрости), то ясно, что для них важно скорее казаться исполняющими дело мудрого, чем действительно исполнить его, но при этом не казаться исполняющими его» [Аристотель 1978, 536]. Поэтому человеку, допускающему ложь, никогда нельзя верить. Заметим, что у Платона и у Аристотеля ложь рассматривается как недостаток. Недостаток природы или недостаток усердия.
Встречается мнение [Несмеянов web], что для античности проблема лжи носит скорее отвлеченный характер гносеологической терминологии, и только Аврелий Августин ее онтологизировал. Однако будет несправедливо полностью разводить видение проблемы дохристианской античностью и епископом Аврелием Августином. Во-первых, теоретическая для нас сфера знания, для античности лежит, разумеется, в практической сфере: знание хотя и ценно само по себе (как знание о Логосе, Благе или Абсолюте), но без него добродетельная жизнь не представляется возможной. Поэтому все, что усложняет поиск истины или мудрости, все, что не дает оценить качество знания, – более чем практическая проблема.
Тот же Гераклит, обращаясь к своим согражданам «Да не иссякнет у вас богатство, эфесцы, чтобы вы изобличались в своей порочности» [Лебедев, Рожанский (ред.), 248], не только оценивает их образ жизни, но и напоминает, что в ней они избрали не «вечную славу», идущую от Логоса, а бренные вещи, с которыми непосредственно связана категория изменения, измерения, текучести и смерти.
О том же – практическом – значении знания нам говорит и так называемая концепция рациональной этики у Сократа, которая рациональная не только потому, что формулируется в первую очередь средствами разума и с современной точки зрения напоминает некоторый алгоритм. А еще и потому, что в рамках античного мировоззрения предполагает неразрывность понимания и действия. Не являются тут исключением и софисты, которые свою релятивистскую трактовку знания воплотили в делах. Очень часто Платон и даже Аристотель касаются вопроса об ошибках, истине и лжи в полемике с софистами. Они возражают им не как оппонентам интеллектуального поединка или игры, а, касаясь все той же сократовской проблемы второго рождения, когда перед человеком раскрывается истинное бытие.
Тем не менее, неверно будет и обратное предположение, будто взгляды Августина и его предшественников на проблему лжи и истины если не совпадают полностью, то между ними не так уж и много различий. Несмотря на то, что на первый взгляд мы имеем общий мотив как познания, так и следующего за ним действия – стремление к тому, что само по себе безусловно положительно, – между этими двумя традициями обнаруживается существенное различие.
По мнению русского ученого Бориса Николаевича Чичерина [Чичерин 2006, 53], античность признавала в человеке неограниченную внутреннюю или нравственную свободу, совершенно отрицая возможность невоздержания. Добрая, нравственная природа человека есть следствие доброй, то есть разумной природы Космоса. Человек, как его проявление просто не может быть иным. По крайней мере, намеренно. Известный софизм «вор» как раз отражает парадоксальность такой позиции по отношению к бытию. Даже софист, стремясь лишь слыть мудрым, все равно на- ходится внутри понятной для античности проблемы поиска способа быть мудрым, то есть имеет ввиду добродетель. Можно поэтому предположить, что представление о свободном обществе соотносятся в древности с признанием человеческой природы как благой, от признания самоочевидности и необходимой силы рациональной нравственности.
С другой стороны, и это ничуть не противоречит мысли Б.Н. Чичерина о свободе, неумолимый Рок правит не только в греческой мифологии и греческой трагике, но и в мироощущении античности в целом. Можно говорить, что именно идея необходимости сообщает цельность всему античному мировоззрению. Она же дает некоторое основание и тому, что не вполне соответствует представлениям о должном, будь то платоновское общество, основанное на трех типах души или тем же софистам, которые только хотят слыть мудрыми. «Украв Елену, Парис нарушил существовавший порядок вещей и, в конце концов, искупил это своей смертью, но компенсация самого нарушения затронула множество людей помимо него. Механизм компенсации – воздаяние рока или месть богов (на человеческом уровне) либо круговорот элементов (на общекосмическом). Следствия закона всеобщи, и никто не в силах избежать их… Идея компенсации – не идея субъективной вины, но идея возмещения ущерба, нанесенного порядку » [Столяров 1999, 23] – таково мнение отечественного исследователя Александра Арнольдовича Столярова об особенностях античной этики. Как отмечают многие авторы, отличительная черта совести той поры состоит в том, что ни один из известных ее типов не превышает сферы того или иного права. Отсюда понятно, что как бы ни было однозначно утверждение античными мыслителями принципа истины, все равно, в виду общего мировоззрения они допускают и его нарушение. Пусть и в качестве нежелательного, ущербного элемента, но отклонению также отводится свое место, в общем-то неизменное. Как мы уже видели, проявляться это может как в парадоксе с вором или в стремлении софистов быть мудрыми, так и в даре Афродиты Персею и его стремлении к Елене.
У Августина мы видим существенное переосмысление проблемы. В ранний период творчества ложь воспринимается им как то, что с необходимостью следует из человеческой природы: «При этом мы остаемся в самих себе и не удаляемся от самих себя, хотя и производим такой знак (tale indicium), благодаря которому наша мысль (nostra notitia) становится (понятной) другому человеку, так что, насколько позволяет возможность, от одного духа происходит как бы другой дух (quasi alter animus), через который первый выражает себя (se indicet). Мы пытаемся это сделать и словами, и самим звуком голоса, и выражением лица, и жестами тела, то есть всеми возможными способами, желая показать то, что внутри (нас). Но поскольку мы не можем достичь этого во всей полноте, и дух говорящего не может проявиться полностью, отсюда возникает возможность лжи» [Фокин web]. Его позиция очень схожа с платоновской – как замечает свящ. Георгий Зяблинцев, «главное в антропологии Платона – не презрение к плоти как таковой, но забота об очищении ума и скорбь о том, что в земной жизни полнота истины недостижима» [Зяблинцев web].
Проблема критерия лжи в такой ситуации осложняется тем, что в земном существовании любое человеческое высказывание, любое знание, хотя бы отчасти лживо, и нет кардинального способа преодолеть это состояние.
Однако уже через пять лет у Августина мы видим нечто совсем новое. А.А. Столяров считает, что кроме христианства, причина тому – влияние неоплатонизма, которое Августин испытывал долгое время, и которое сказывалось на его воззрениях до конца жизни. «В недрах рациональной парадигмы парадоксальным образом сформировалась “философская религия” (неоплатоники, в частности Прокл, совершенно сознательно обозначали подобную метафизику понятием “теология”); ее основоположения базировались не на разуме, а на “эротическом” умозрении и, в конечном счете, на философском откровении» [Столяров 1999, 93]. А так как за основу берется Эрос (то есть волевое стремление), а не разум, то свобода воли приобретает не характер необходимости выбора лучшего, а свободы стремления к желаемому.
Теперь святой Августин рассматривает ложь в контексте проявления противостоящего Богу зла, которое понимается им как умаление добра, а значит и истины. По этой при- чине понятно, что его точка зрения будет отличаться известной категоричностью. В «Эн-хиридионе к Лаврентию» он, в том числе на примере Вергилия, рассматривает возможность положительной, доброй ошибки или обмана. Вероятно, что здесь Августин отвечает на распространенную в его время точку зрения, допускающую положительные стороны или последствия обмана. С одной стороны, Августин дает куда более радикальное определение ошибки, чем Платон: «...ошибаться есть не что иное, как принимать ложь за истину и истину за ложь» [Аврелий Августин web б], а саму ложь напрямую увязывает с грехом, тем самым делая ее важным моментом в понимании человека, движимого волей.
Здесь роль необходимости и природного состояния становится не столь тотальной и открывается одно из существенных отличий собственно августиновской позиции. Широко известно воспоминание автора «Исповеди» о воровстве груш, когда ему было еще шестнадцать лет. По поводу этой банальной, в общем-то, ситуации Августин не разбирает влияние внешних обстоятельств, побудивших его совершить поступок, не говорит об особенностях возраста, этапах формирования личности, самосознания или о чем-то вроде этого. Он пишет совершенно иное: «Пусть скажет Тебе сейчас сердце мое, зачем оно искало быть злым безо всякой цели. Причиной моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее; я любил погибель; я любил падение свое; не то, что побуждало меня к падению; самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости Твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок» [Аврелий Августин web а].
Если для Платона центр антропологии – невозможность в земной жизни такого очищения ума, чтобы иметь полное познание истины, для Августина центром антропологии становится способность (но не предзаданность!) человека сознательно отходить от добра и выбирать зло как зло.
Августин объявляет ложь грехом, и как всякий другой грех, она для него характеризуется важнейшим обстоятельством: никакие рациональные обоснования или опровержения, никакие внешние обстоятельства не могут ее предотвратить и искоренить. Бездна греха, увлекающая человека, раскрывающая его подноготную и изменяющая его природу – ситуация, когда он может желать самого порока – и есть одна из тех причин, по которой Августин категорически не приемлет ложь даже в благих целях, тем более для спасения души. В отношении лжи Августин категоричен. В трактате «Против лжи» он заявляет, что для ее существования нет ни одного оправдания ни от Бога, ни от человека.
Теперь проясняется и вопрос критерия лжи. «Желание самого порока», душа, «ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок», сознательное делание зла как зла – и есть этот критерий. Поэтому не всякая неправда есть ложь. Для шутки Августин находит место, хотя в ее контексте и может высказываться неправда. Но тут нет намерения выдать ее за правду, и неправда всегда вовремя разоблачает сама себя. Заблуждение также не связано с ложью, так как происходит оно не из-за стремления к пороку, а в силу незнания заблуждающегося.
Грех для Августина – это бесспорно начало и движущая сила разрушения, которое человеку невозможно остановить. И это одно из принципиальных отличий позиции Августина от античного восприятия. Он пишет: «Ибо лживым правильно называется тот, кто имеет желание обмануть кого-либо и который делает это, отчасти пользуясь разумом, отчасти же в силу своей природы. <…> Неправдивым же я называю то, что высказывается говорящими неправду. Они тем отличаются от лжецов, что всякий лжец желает обмануть, но не всякий говорящий неправду имеет подобное намерение» [Блаженный Августин 2000, 353].
Другое отличие связано с пониманием Бога в христианстве. Бог отличается от греческого Демиурга и даже от Единого неоплатоников. Он не принадлежит миру, Он, как Творец, находится вне своего творения. При этом мир принадлежит Ему, нет пропасти между Ним и миром, как есть она даже между Единым и порожденными Им вещами.
Русский исследователь Иван Васильевич Попов отмечает, что для Августина «Форма, мыслимая в Боге, самобытна и чужда пространственных и временных границ. В вещах же сотворенных она гораздо ниже, так как дается им извне и носит в себе элемент ограничения в пространстве и времени. Следовательно, они ложны. Бог же, как самобытная духовная и вечная форма, есть их Истина, Которой они подражают, но осуществить Которую они не могут» [Попов web].
Та же печать несовершенства лежит и на человеке. Возможно, на человеке прежде всего. И тут особое значение приобретает не только проблема воления. В не меньшей степени ситуация определяется грядущим восстановлением природы человека и всего бытия.
Сам мир не воспринимается христианством как нечто изначально несущее на себе печать убытка и зла, так как до грехопадения человека все творение было добрым, а сам Августин уверен, что даже право существует из силы Любви [Heckel 1953], так как Бог есть Любовь. Лишь вследствие поступка Адама и Евы мир, прежде отданный им Богом для возделывания, приобрел оттенок зла. Для христианства неприемлема и неоплатоническая идея возвращения отпавшего многого в Единое, слияние в Нем, поскольку тут индивидуальность творения имеет большую ценность.
Для Августина завершенный человек – это христианин, который получает совершенство лишь в будущей жизни – Царствии Небесном. В жизни этой он может лишь поддерживать себя, поддерживать в поте лица, то есть без отдыха, вне зависимости от успешности, или наоборот – не успешности текущего момента. В том числе и избегая лжи.
Ведь в Боге, как и в Царствии Небесном нет ни тьмы, ни лжи, ни какого-то другого несовершенства. И тот факт, что в этой жизни ложь и истина сосуществуют подобно Граду Небесному и граду земному, вовсе не придает лжи какие-то онтологические права. Наоборот, ложь существует скорее как результат недостаточности усилий человека по ее преодолению.
Список литературы Особенности понимания лжи Аврелием Августином
- Аврелий Августин web а – Аврелий Августин. Исповедь // https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/ispoved/#0_26
- Аврелий Августин web б – Аврелий Августин. Энхиридион к Лаврентию, или О вере, надежде и любви // https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/enhiridion/
- Аристотель 1978 – Аристотель. О софистических опровержениях // Сочинения в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1978.
- Блаженный Августин 2000 – Блаженный Августин. Творения. В 4 т. Т. 1: Об истинной религии. СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 2000.
- Зяблинцев web – Зяблинцев Георгий, свящ. Платон и святоотеческое богословие [Богословские труды. 1996. № 32] // http://odinblago.ru/platon_i_sv_bogosl
- Кессиди 1982 – Кессиди Ф.X. Гераклит. М.: Мысль, 1982.
- Лебедев, Рожанский (ред.) 1989 – Лебедев А.В., Рожанский И.Д. (ред.). Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989.
- Неретина web – Неретина С.C. Аврелий Августин: Исповедь как философствование // http://anthropology.rchgi.spb.ru/avgustin/21_neret.pdf
- Несмеянов web – Несмеянов Е.Е. К вопросу о возникновении теории лжи у Августина Блаженного [Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 5] // http://hses-online.ru/2013/05/09_00_13/14.pdf
- Платон 2007 – Платон. Сочинения в 4 т. Т. 2. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2007.
- Попов web – Попов И.В., муч. Труды по патрологии. Т. II. Личность и учение блаженного Августина // https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Popov/trudy-po-patrologii-tom-iilichnost-i-uchenie-blazhennogo-avgustina/4
- Столяров 1999 – Столяров А.А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 1999.
- Фокин web – Фокин А.Р. Учение Аврелия Августина о внутреннем слове // https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/blazhennyj-avgustini-avgustin izm-v-zapadn oj-i-vostoch nojtraditsijah/#0_4
- Чичерин 2006 – Чичерин Б.Н. История политических учений. Т. 1. СПб.: Изд-во РХГА, 2006.
- Heckel 1953 – Heckel J. Lex charitatis. Eine juristische Untersuchung uber das Recht in der Theologie Martin Luthers. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1953.