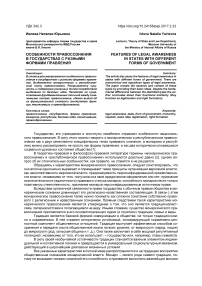Особенности правосознания в государствах с разными формами правления
Автор: Ивлева Наталия Юрьевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности правосознания в государствах с разными формами правления. Выделяются монархический и республиканский типы правосознания. Раскрываются сущность и содержание указанных типов посредством выделения их базовых идей. Несмотря на существование фундаментальных отличий между означенными типами правосознания, сделан вывод об их функциональной схожести (выполняют функции легитимации и правообразования).
Правосознание, государство, форма правления, монархия, республика, базовая идея, легитимация, правообразование
Короткий адрес: https://sciup.org/14932078
IDR: 14932078 | УДК: 342.3
Текст научной статьи Особенности правосознания в государствах с разными формами правления
ФОРМАМИ ПРАВЛЕНИЯ
Государство, его учреждения и институты неизбежно отражают особенности национального правосознания. В силу этого можно говорить о монархическом и республиканском правосознании как о двух качественно специфических типах правового сознания, а монархию и республику можно рассматривать не просто как формы правления, а как два исторически сложившихся социально-духовных состояния общества [1].
В теоретико-правовой и философско-правовой литературе термины «монархическое правосознание» и «республиканское правосознание» используются довольно давно [2], однако вопрос об их отличительных особенностях, как правило, не ставится и не решается.
Обращаясь к характеристике монархического правосознания, следует констатировать, что оно вполне однозначно выражает и оправдывает такие принципы организации верховной власти, как неколлективность верховной власти; предсказуемость персонифицированной преемственности власти, независимо от того, получила она свое юридическое оформление или нет; признание исключительности (единичности) правового статуса монарха; способность монарха нести только позитивную ответственность; признание монарха персонифицированным источником права.
Вследствие органичной связанности права государства с обычным правом общества в монархическом сознании доминирует его религиозно-нравственная составляющая. В связи с этим монархическое правосознание также нужно понимать как сложное сочетание собственно правового с религиозным и нравственным сознанием. Прямым следствием такой характеристики монархического правосознания является утверждение о том, что оно является традиционалистским, патерналистским и полагающимся на веру. Иными словами, существо монархического правосознания преломляется в его основополагающих идеях (и понятиях) традиции, семьи и веры.
Традиция является базовой формой коммуникации в обществе, не только традиционном, но и современном. В ней отражен исторически устойчивый, консервирующий нормативно-ценностный компонент общественных отношений. Традиция выступает эффективным способом сохранения и передачи опыта общественной жизни на всех уровнях, от макрогрупп (народ, нация) до микрогрупп (род, сельская община и т. д.). Она также заключает в себе мощный регулятивный потенциал, независимо от того, кто ее использует, – государство или, например, главы семейств.
В силу своей необычайной устойчивости традиции становятся важным элементом индивидуальной и коллективной психики и превращаются в универсальный социокультурный механизм, действующий в широчайшем диапазоне жизненных условий.
Все указанные характеристики в полной мере распространяются и на традицию восприятия общественным сознанием монархической власти. Монарх – своего рода символ традиции, потому не вызывают никаких сомнений его способность и призвание выполнять важнейшую миссию объединения и защиты подданных. Государь является преемствующим звеном всего ряда своих предшественников, олицетворяет дух верховной власти. И.Л. Солоневич писал по этому поводу следующее: «Все организовано так, чтобы личная судьба индивидуальности была спаяна в одно целое с судьбой нации. Все, что хотела бы для себя иметь личность, - все уже дано. И личность автоматически сливается с общим благом» [3].
Хотя монархия сама по себе не является панацеей от всех социальных, экономических и политических проблем, она может в известных пределах стабилизировать политическое, социальное и нравственное состояние общества. Поэтому монархии являются не только историкокультурным наследием человечества, но и реальной формой правления немалого числа современных государств, например Великобритании, Канады, Австралии, Швеции, Нидерландов, Таиланда, Японии и т. д.
Традиция в системе организации высшей государственной власти в форме монархии выступает одним из смысловых узлов монархического правосознания.
В идее семьи выражено патерналистское начало монархического сознания. Монарх не просто воплощает в себе власть во всей ее полноте, но осуществляет ее, покровительствуя людям, отечески их опекая и защищая. Естественно, такое отношение к подданным должно вызывать у последних преданность, полное послушание, следование воле государя, самоотверженность и готовность к беззаветному служению государю, а значит, и Родине.
Монархия с помощью механизма традиции воспроизводит патриархальное восприятие государства и верховной власти, что совершенно чуждо, например, республиканскому сознанию. Всякие попытки растворить семью в коллективе, семейную жизнь в жизни общественной (трудовой, политической и т. д.) неуклонно ведут к подрыву монархического сознания.
Монархическое сознание, как было сказано, имеет ярко выраженную религиозную природу. Это характерно не только для общественного сознания давно ушедших исторических эпох, но -конечно, в трансформированном виде и не столь явно - и для современных обществ. Ему присуща склонность воспринимать государственную власть как священную и сакральную, что придает монарху особый, высший мыслимый ранг. Как учил святой Филарет (Дроздов), митрополит Московский, «Царь, по истинному о нем понятию, есть Глава и Душа Царства. Но вы возразите мне, что Душой государства должен быть закон. Закон необходим, досточтим, благоверен; но закон в хартиях и книгах есть мертвая буква… Закон, мертвый в книге, оживает в деяниях, а верховный государственный деятель и возбудитель и одушевитель подчиненных деятелей есть Царь» [4, с. 11] .
Но вера не исключает разумного отношения к власти. И.А. Ильин утверждал, что «религиозная вера есть величайшая сила, призванная углублять, очищать и облагораживать инстинкт личного и национального самосохранения, но отнюдь не гасить, не обессиливать и не извращать его неверными, лжебогословскими доктринами» [5].
Вера вызывает доверие к государю в осуществлении им своих намерений и способностей, уверенность в том, что государь предан своему народу, стремится к его благу, всегда справедлив и бескорыстен в своем служении (высоком призвании).
Если у подданных в силу каких-либо причин ослабевает такое восприятие верховной власти и ее олицетворения, монархическое общественное сознание теряет свое доминирующее значение. По крайней мере, в европейской и российской истории следствием этого были «смутные времена», народные бунты, революционные процессы.
Для сравнения представим характеристику республиканского правосознания. Прежде всего необходимо указать на то, что оно выражает и оправдывает такие принципы организации верховной власти, как принципиальная неперсонифицированность верховной власти; выборность при формировании властно-распорядительной структуры; непреемственность в передаче власти; единообразность (одинаковость) правового статуса любого представителя власти, независимо от его места во властной структуре; единство позитивной и негативной ответственности; признание источником права не власти самой по себе, а именно власти народа.
В условиях республики роль обычного права минимальна, доминирует юридическое, формальное, рациональное право, являющееся формой государственного руководства и управления (право-управление). Оно является результатом преобладания рассудочного восприятия системы организации государственной власти.
Республиканское общественное правосознание имеет вполне определенный и объяснимый признак: оно складывается и воспроизводится на основе органической и преобладающей связанности в нем политического и правового компонентов. Эта связь лучше всего отражается именно юридическим правом. Как следствие, республиканское правосознание характеризуется тем, что его индивидуально-личностное начало имеет очевидную вторичность в сравнении с коллективным началом, вплоть до растворения первого во втором.
Республиканское правосознание начисто лишено даже каких-либо намеков на священность и неприкосновенность государственной власти. В его контексте власть подконтрольна и зависима от воли провозглашенного источника этой власти - народа. Это одна из краеугольных идеологем республиканского сознания.
Исходя из сказанного, можно с достаточной обоснованностью утверждать, что существо республиканского правосознания адекватнее всего выражено как минимум в идеях гражданственности, законности и общественного блага, определяющих общий смысловой фон общественного правосознания.
В идее гражданственности превалирует политический момент. Гражданственность - это индивидуальная форма выражения политических взглядов и позиций. Ее содержание может быть охарактеризовано следующим образом.
Прежде всего, в идее гражданственности отражены степень развитости социальной позиции человека или группы и активная направленность на ее воплощение в социально значимой деятельности. Это свойство, в котором выражена социально-духовная связь индивида (как члена общества) с гражданским обществом и государством. Там, где отсутствуют индивидуальные носители гражданской позиции, гражданское общество существует только в формальном смысле, в виде совокупности негосударственных организаций, объединений, институтов.
Также гражданственность связывается с приверженностью общественным ценностям и идеалам, среди которых особая роль принадлежит ценности самостоятельности, индивидуальной или коллективной, и независимости, конечно в определенных пределах, от государства (например, в частной жизни, предпринимательстве и т. п.).
Наконец, в идее гражданственности выражено наличие индивидуальной и коллективной позитивной ответственности. Являясь формой выражения активной социальной позиции людей, она позволяет гражданскому обществу развиваться на своей собственной основе и имеет первостепенное значение для существования общественного права.
Идея законности раскрывается в следующих аспектах.
В первую очередь в ней выражены требование и стремление сообразовывать общественно значимую деятельность с законами, но при этом с законами не формальными, навязываемыми исключительно силой, хотя всегда поддерживаемыми законной же силой, а отвечающими духу общественного права, т. е. его действительной природе. Общественное право прежде всего вырастает из общественных отношений, а не исчерпывается их конструированием.
В идее законности также заложена убежденность в том, что право в своем действии является общим для всех без исключения. В рамках права неизбежные различия между людьми в требованиях по отношению к ним и в их ответственности должны находить признание в обществе, быть обоснованными и понятными и не противоречить основному требованию подчиняться закону.
Наконец, идея законности содержит мысль о правовой обоснованности (санкционированности) деятельности государства и ограниченности действий любого представителя государственной власти ввиду временного наделения его полномочиями.
В идее законности доминирующим является правовой аспект.
Идея общего блага заключает в себе мысль о том ценном для всех членов общества, лучше всего отвечающем природе общественной жизни и человека, что в состоянии объединять и действительно объединяет общество и государство в их деятельности.
Также в идее общего блага выражена важнейшая цель человеческой жизни, которой должна соответствовать деятельность государства. В свете общего блага существующие и создающиеся общественные отношения, направления деятельности предстают как целесообразные, разумные, способные удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, приносить пользу, не нанося вместе с тем ущерб кому бы то ни было в обществе. Общее благо является оправданием действий власти в глазах общества, назначением власти государства.
Кроме того, содержание идеи общего блага является внутренне контрастным: наличие общего блага подразумевает одновременное существование того, что противоположно ему, указывает на несовместимость с обособленным, корыстным интересом, претящим общественному равенству и справедливости [6].
Монархическое и республиканское правосознание объединяет их связь с одними и теми же системообразующими функциями: легитимации и правообразования. Их следует понимать как функции, типологизирующие правосознание. При их характеристике ограничимся двумя моментами.
Во-первых, обе они отражают и действующее право, и общественное правосознание с точки зрения содержания. Такое утверждение логично вытекает из признания того, что именно форма правления среди других форм государства наиболее политически насыщена. Политика же по определению характеризует государство в содержательном плане, она - содержание его деятельности.
Во-вторых, различия между рассматриваемыми типами правосознания существуют в способах реализации системообразующих функций. А именно в контексте монархического правосознания функция легитимации реализуется через механизм неформального признания, а функция правообразования – через механизм правотворчества. Под правообразованием здесь понимается целенаправленный или стихийный процесс придания тем или иным явлениям, отношениям, требованиям и т. д., существующим или желательным, правового характера (как содержания, так и формы); под правотворчеством – целенаправленный или стихийный процесс внедрения в действующее право создающихся правовых форм (отношений, норм и т. д.).
В контексте республиканского правосознания функция легитимации осуществляется посредством целенаправленного использования механизма узаконения, а функция правообразо-вания – через механизм правоустановления, под которым понимается целенаправленный процесс наделения тех или иных правовых форм и явлений определенной юридической силой.
Таким образом, в работе представлена краткая характеристика монархического и республиканского правосознания, при этом основной акцент сделан на их идейном строе. Проведенный анализ свидетельствует о том, что во многих своих компонентах монархическое и республиканское сознание противоположны друг другу. Однако, как видно, четкой границы между ними не существует, в функциональном плане они схожи.
Ссылки:
-
1. Ивлева Н.Ю. Критерии и назначение типологизации правосознания / / Теоретико-правовые и культурно-исторические проблемы взаимосвязи органов внутренних дел и гражданского общества : сб. ст. М., 2016. С. 200–209.
-
2. Абдурахманова И.В. Монархическое правосознание в России в начале 20 столетия: факторы и тенденции трансформации // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 2016. № 3 (79). С. 7–11 ; Кутафин О.Е. Глава государства. М., 2013. С. 56–57 ; Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Три модели развития России. М., 2000. С. 32 ; Томсинов В.П. Мыслитель с поющим сердцем. Иван Александрович Ильин: русский идеолог эпохи революций. М., 2012. С. 132 ; и др.
-
3. Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2010. С. 113.
-
4. Овчинников А.И. Библейский идеал государства: теоретический аспект // Философия права. 2014. № 4 (65). С. 7–11.
-
5. Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 185.
-
6. Rawls J. A theory of justice. Revised edition. Cambridge, 1999. 538 p.
Список литературы Особенности правосознания в государствах с разными формами правления
- Ивлева Н.Ю. Критерии и назначение типологизации правосознания//Теоретико-правовые и культурно-исторические проблемы взаимосвязи органов внутренних дел и гражданского общества: сб. ст. М., 2016. С. 200-209.
- Абдурахманова И.В. Монархическое правосознание в России в начале 20 столетия: факторы и тенденции трансформации//Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 2016. № 3 (79). С. 7-11.
- Кутафин О.Е. Глава государства. М., 2013. С. 56-57.
- Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Три модели развития России. М., 2000. С. 32.
- Томсинов В.П. Мыслитель с поющим сердцем. Иван Александрович Ильин: русский идеолог эпохи революций. М., 2012. С. 132.
- Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2010. С. 113.
- Овчинников А.И. Библейский идеал государства: теоретический аспект//Философия права. 2014. № 4 (65). С. 7-11.
- Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 185.
- Rawls J. A theory of justice. Revised edition. Cambridge, 1999. 538 p.