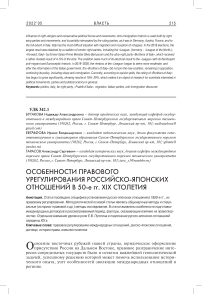Особенности правового урегулирования российско-японских отношений в 50-е гг. XIX столетия
Автор: Бутакова Надежда Александровна, Евграфова Ирина Владимировна, Тарасов Александр Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена специфике установления русско-японских отношений в 1850-е гг., их правовому регулированию. Методологической основой статьи явились общенаучные методы и специальные (историко-правовой и др.) методы исследования. В статье выявлены особенности подготовки международных договоров в рассматриваемый период, факторы, оказывающие влияние на правотворчество. Отдельное внимание уделено роли Е.В. Путятина в подписании русско-японских соглашений середины XIX в.
Правовое регулирование международных отношений, русско-японские отношения, договор, история права, внешняя политика
Короткий адрес: https://sciup.org/170195876
IDR: 170195876 | УДК: 342.1 | DOI: 10.31171/vlast.v30i5.9266
Текст научной статьи Особенности правового урегулирования российско-японских отношений в 50-е гг. XIX столетия
О своение восточных рубежей нашей страны, юридическое оформление присутствия России на Дальнем Востоке, правовое разграничение интересов сопредельных государств было и остается важнейшей геополитической задачей, успешному решению которой может помочь использование исторического опыта, учет особенностей эволюции международных отношений в регионе.
Уже к середине XIX столетия актуальными стали вопросы закрепления и юридического оформления Дальневосточного региона в составе Российского государства, легализации отечественных властных институтов в восточных землях. Эффективность данного процесса зависела от целого ряда как объективных, так и субъективных факторов – противодействия российскому влиянию на Дальнем Востоке со стороны ведущих европейских государств и США, удаленности от столицы, отсутствия единого мнения в правящих кругах по восточному вопросу.
Недостаточность политических, экономических, социальных ресурсов, малая плотность населения обусловили специфическую политику, предполагавшую освоение важнейших геополитических точек в регионе, позволявших в достаточной степени контролировать остальное пространство.
Подобный подход определил особое внимание к Курильским островам и Сахалину, занимавшим ключевое географическое положение в северной части Тихого океана.
Освоение Дальневосточного региона осуществлялось различными путями. Во-первых, это исследование новых территорий, составление картографического их описания, установление различных знаков с государственной символикой России, закрепляющих права на эти земли по общепринятому в то время праву «открытия». Во-вторых, это организация на новых землях систематической промысловой деятельности, разведки и добычи полезных ископаемых. Третьим направлением деятельности можно считать включение в российское подданство представителей коренного населения. Освоение новых территорий предполагало создание на них административно-управленческих структур, представлявших интересы российского государства [Плотников 2018: 143].
Подобная активная деятельность не могла не привести к пересечению российских интересов с интересами других государств, прежде всего Японии, вышедшей к XIX столетию из политики самоизоляции и интенсивно осваивающей северные территории. Сложившаяся ситуация обусловила необходимость скорейшего установления дипломатических, торговых отношений, установления официальной границы, признаваемой обеими странами, ее юридического закрепления. Требовалось разграничение зон влияния сопредельных государств, правовое урегулирование проблем конкуренции.
Обострение международной обстановки к середине XIX столетия, которое привело в результате к Крымской войне 1853–1856 гг., нарастающее противостояние России и ведущих европейских государств требовали принятия экстренных неординарных мер во внешней политике, направленных на стабилизацию восточной политики страны.
Еще в мае 1852 г. Николай I утвердил проект российской экспедиции в Японию, главой которой был назначен Ефим (Евфимий) Васильевич Путятин – человек, по мнению современников, обладавший непоколебимой волей и «дипломатическим талантом». Выбор руководителя экспедиции не был случайным. Е.В. Путятин, морской офицер знаменитой лазаревской школы, имел к середине XIX в. значительный опыт как флотской службы, так и дипломатической деятельности. В 40-х гг. XIX столетия Путятин в составе российских дипломатических делегаций посетил Англию, Голландию, побывал в Турции и Египте. Осуществив в 1841–1842 гг. успешную миссию в Персию, он добился от персидского правительства устранения препятствий российской торговле как на Каспийской море, так и в самой Персии, «принял меры для разграничения водных пространств», способствовал становле- нию пароходного сообщения на Волге и Каспийском море, развитию рыбных промыслов в регионе1.
Понимая важность восточного направления государственной политики, Е.В. Путятин еще в 1843 г. подготовил и представил на рассмотрение правительству подробный проект экспедиции к дальневосточным рубежам России, имевшей целью уточнение и правовое закрепление границ, установление добрососедских отношений с сопредельными государствами. Но практическая реализация этого проекта стала возможной лишь спустя почти 10 лет, во-многом благодаря поддержке великого князя Константина Николаевича, фактического главы Морского ведомства.
Ввиду важности задач, стоящих перед миссией адмирала Путятина, и их объема подготовкой делегации занимались сразу два ведомства – морских и иностранных дел. Скорейшему принятию решения способствовала меняющаяся международная ситуация, активные попытки иностранных государств усилить свое присутствие в Японии и на Дальнем Востоке. В 1845 г. конгресс США предоставил президенту полномочия для скорейшего установления отношений с Японий, важнейшим результатом которых должно было стать создание опорной морской базы на пути в Китай. Сделав упор на позицию силы, североамериканское руководство направило к берегам Японии военную эскадру командора Перри.
Российская сторона с самого начала отказалась от жесткого, силового давления на представителей японской стороны. Неблагоприятная для России международная обстановка определила применение сдержанных мер ведения переговоров, требовала недопущения вооруженного конфликта на Дальнем Востоке. Позже, в своих воспоминаниях Путятин напишет: «…поставлено мне в обязанность путем мирных переговоров склонить Японское Правительство дозволить Русским купеческим судам и торговцам приставать к Японским берегам для мены наших товаров на произведенные в Японии»2.
Разработанные Министерством иностранных дел инструкции предполагали установление русско-японских дипломатических и торговых отношений, получение льгот и равных прав в торговле на территории обеих держав. Точное, легально закрепленное размежевание границ России и Японии предполагалось как основное средство активизации переговоров. Подготовленный проект договора предполагал проведение русско-японской границы между островами Курильской гряды: южная оконечность острова Уруп должна была отойти к России, север острова Итуруп считался японским [Зиланов и др. 2015: 41].
В предоставленных Е.В. Путятину документах указывалось на необходимость сохранения и упрочения присутствия на Сахалине – стратегически важном для страны острове. В отношении этого вопроса российская делегация должна была придерживаться жесткой политики, не допуская при этом открытой конфронтации с японской стороной. Вместе с инструкциями вице-адмиралу Е.В. Путятину была вручена Высочайшая грамота к японскому государю и подарки правительству Японии.
Учитывая специфические особенности японского делового этикета, мало знакомые на тот момент представителям российской делегации, для получения консультаций по местным обычаям и правилам поведения были привлечены голландски е мореходы, имевшие опыт в этой сфере. По совету полковника
Зибольда, впоследствии вместо Высочайшей грамоты было признано целесообразным направить письмо в «верхний японский совет» от имени государственного канцлера графа Нессельроде, которое содержало описание основных целей и задач экспедиции Путятина, просьбу «в удовлетворении справедливых и миролюбивых предложений российского правительства» и носило уведомительный характер. Важнейшим пунктом письма стало внесенное по требованию Министерства иностранных дел положение об определении границ между Россией и Японией, «как смежных Государств, чтобы тем поставить Японское Правительство в необходимость вступить в переговоры о торговых сношениях»1.
В целях соблюдения правил японского делового этикета были внесены изменения и в программу деятельности российской делегации. Первоначально предполагалось, что Путятин прибудет в тогдашнюю столицу Японии – город Эдо. Но для того, чтобы показать уважение к обычаям и законам Японии, мирную направленность российских предложений, вызвать расположение правительства, экспедиции предписывалось прибыть в Нагасаки, единственный порт, куда допускались иностранные корабли.
По прибытии 9 августа 1853 г. в порт адмирал Путятин передал губернатору Нагасаки правительственные документы для доставки их в Верховный совет Японии, добавив и собственное письмо, в котором обосновывалась необходимость открытия переговоров в Эдо с высшими представителями власти Японии. В письме также давалось заверение в готовности Путятина отправиться в столицу сухопутным маршрутом. Данное предложение не было воспринято японским правительством, и переговоры были начаты в Нагасаки.
Первые контакты с японской стороной оказались малоуспешными. Полномочные представители японского правительства осторожно уклонялись от прямого обсуждения основных вопросов: о торговом договоре, установлении границ между государствами, придавая переговорам затяжной характер.
Серьезным испытанием, поставившим начатые переговоры под угрозу срыва, стало известие, полученное Е.В. Путятиным в ноябре 1853 г. Командир шхуны «Восток» В.А. Римский-Корсаков доставил присланное через генерал-губернатора Восточной Сибири извещение о занятии Россией, по высочайшему повелению, острова Сахалин и предписание Министерства иностранных дел настаивать в переговорах с Японией об уступке этого «никому не принадлежащего острова, исключая Южный по оконечности с заливом Анива, на коем находятся Японские поселения, занимающиеся рыбным промыслом»2. Для того чтобы не разрушить с большим трудом установленные контакты с японской стороной, Путятин «долгом своим счел в избежание всяких недоразумений препроводить в Верховный совет …дополнительное письмо от себя», имевшее целью смягчить сложившуюся ситуацию.
Начавшаяся Крымская война 1853–1856 гг., обусловившая ухудшение международного положения Российской империи, прямая угроза безопасности самой делегации способствовали дальнейшему затягиванию переговоров японской стороной. Только 4 января 1854 г. адмиралу Путятину торжественно вручили ответ Верховного совета Японии, написанный на китайском языке с переводом на голландский, для передачи правительству России. При этом одновременно японские полномочные представители сообщили текст письма Путятину и выразили готовность объяснить возникающие неясности.
О характере письма можно судить по воспоминаниям Евфимия Васильевича: «Ответ Верховного Совета может служить образчиком японской дипломатии и вообще выражением хитрого ума и изворотливого характера, отличающего Японский народ. В письмах не выражено положительно ни отказа, ни согласия на наши требования». Подтверждая со своей стороны необходимость определения четких границ между Россией и Японией, «члены Верховного Совета представили, однако, столько затруднений этого дела в исполнение, что сделали почти невозможным решение этого вопроса»1.
Ряд проблем возник и при подписании торгового договора. Японская сторона требовала отсрочки от 3 до 5 лет для рассмотрения и обсуждения данного вопроса. В качестве причин такой задержки приводилась необходимость вынести эту проблему на широкое обсуждение всех «владетельных князей и сановников», что не устраивало российскую делегацию, занявшую жесткую позицию, мотивированную тем, что данные о поставленном вопросе получены японскими властями уже более 6 месяцев тому назад, и, следовательно, имелось достаточно времени для его изучения и решения. Для подкрепления этой жесткой позиции представителям японской стороны была передана особая нота, в которой говорилось, как невыгодно и даже опасно было бы для Японии оставаться в изоляции, быть чуждой миру в условиях, когда не исключалась возможность возникновения конфликтов с другими державами.
Но для того, чтобы сосредоточить внимание на основных направлениях переговоров, адмиралу Путятину пришлось временно оставить вопрос о торговле и перейти к вопросам о русско-японских границах. Понимая, что Россия, занятая войной, не в состоянии противостоять в Приморье англо-французской эскадре, японская сторона потребовала оставить открытым вопрос о Сахалине.
Несмотря на все сложности, 23 января 1854 г. после многих встреч и целенаправленных переговоров Путятину удалось склонить японских представителей подписать два важных положения, формально закрепивших права России на развитие дальнейших отношений с Японией.
Данные положения провозглашали следующее.
«1. По открытию Японских портов для торговли Россия будет допущена к этой торговле ранее, чем какая-либо другая нация.
2. Если бы в последствии Япония открыла торговлю для других наций, тогда, в уважении соседства, все права и преимущества, как торговые, так и всякие другие, которые будут сверх данных России в тоже время распространяться и на Россию»2.
Заключение предварительного договора позволило русской делегации вновь посетить Японию в конце осени 1854 г. После вынужденной паузы, вызванной разрушительным землетрясением, в конце 1854 г. переговоры были возобновлены. К этому моменту российская делегация предоставила противоположной стороне проект договора о русско-японской границе, положения которого с самого начала вызвали активное противодействие. Постепенно нарастая, противоречия достигли крайней степени при обсуждении вопроса о разрешении русским христианского богослужения на территории Японии. И только благодаря дипломатическим усилиям и такту Евфимия Васильевича Путятина,
7 февраля 1855 г. был подписан первый русско-японский договор (Симодский трактат).
Первая статья трактата гласила: «Отныне да будет постоянный мир да искренняя дружба между Россией и Японией». Следующая статья определяла границы между двумя государствами: «Отныне границы между Россией и Японией будут проходить между островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу составляют владения России. Что касается острова Карафуто (Сахалин), то он остается не разделенным между Россию и Японией, как было до сего времени»1.
Договор обусловил установление официальных дипломатических отношений между государствами, назначение в Японию русских консулов, начиная с 1856 г., нахождение их при японском дворе.
Заключение договора стало важнейшей вехой, отправным пунктом дальнейшего развития русско-японских экономических отношений. Для русских торговых судов открывались японские порты Нагасаки, Симода, Хакодатэ. Несмотря на жесткий контроль со стороны представителей японских властей, российская торговля получила ряд льгот, в т.ч. право экстерриториальности. Закреплялись личная безопасность российских подданных, защита частной собственности.
Анализ Симодского трактата следует осуществлять с учетом реальной специфики сложного для нашей страны исторического периода. Данный договор можно рассматривать как победу отечественной дипломатии в решении вопроса о юридическом закреплении российско-японских границ, установление официальных межгосударственных отношений, обеспечение нейтралитета Японии в период Крымской войны.
Заключенный в 1855 г. договор стал юридической основой для дальнейшего развития и укрепления межгосударственных отношений. В последующем адмирал Путятин еще несколько раз посещал Японию с дипломатической миссией. Во многом благодаря его дипломатической деятельности, подписаны договоры: «О порядке русско-японской торговли» (1857 г.) и «Об установлении дипломатических отношений, торговле и дружбе» (1858 г.), значительно расширявшие диапазон отношений двух стран и обеспечивающие их правовое регулирование.
Список литературы Особенности правового урегулирования российско-японских отношений в 50-е гг. XIX столетия
- Зиланов В. К., Кошкин А.А. Плотников А.Ю., Пономарев С.А. 2015. Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории формирования русско-японской границы и советско-японской границы. М.: Алгоритм. 400 с.
- Плотников А.Ю. 2018. К вопросу о значении Курильских островов в истории Азиатско-Тихоокеанского региона. - Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 3(806). С. 140-146.