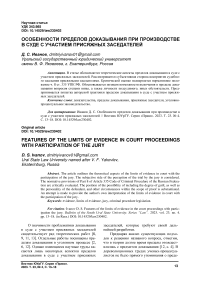Особенности пределов доказывания при производстве в суде с участием присяжных заседателей
Автор: Иванов Д.С.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 т.23, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье обозначаются теоретические аспекты пределов доказывания в суде с участием присяжных заседателей. Рассматривается субъективная сторона восприятия судебного заседания присяжными заседателями. Критической оценке подвергается нормативное положение ч. 8 ст. 335 УПК РФ. Обосновывается позиция возможности включения в пределы доказывания вопросов степени вины, а также личности подсудимого, иных обстоятельств. Предпринимается попытка авторской трактовки пределов доказывания в суде с участием присяжных заседателей.
Доказательства, пределы доказывания, присяжные заседатели, уголовно-процессуальное законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/147242641
IDR: 147242641 | УДК: 343.985 | DOI: 10.14529/law230402
Текст научной статьи Особенности пределов доказывания при производстве в суде с участием присяжных заседателей
О значимости проблематики доказывания в суде с участием присяжных заседателей свидетельствует ряд теоретических работ [8, 9, 11, 13]. Отдельные работы посвящены пределам доказывания в уголовном процессе [2, 6, 12]. Однако имеющиеся научные труды касаются лишь некоторых аспектов пределов доказывания в суде с участием присяжных заседателей, которые требуют своей дальнейшей разработки.
Предваряя анализ существующих подходов к решению названого вопроса, отметим, что в теории долгое время пределы отождествлялись с предметом доказывания [12, с. 4]. В дореволюционных трудах ученых-процессуалистов не было прямого упоминания о преде- лах доказывания. И. Я. Фойницкий рассматривал пределы судебного исследования. Устанавливать пределы, по мнению ученого, необходимо было, во-первых, в интересах подсудимого и прочих участвующих лиц. Судебное исследование должно ограничиваться обстоятельствами, выяснение которых необходимо для правосудия. Во-вторых, в интересах самого правосудия. Суд не должен отвлекаться от существенного на посторонние и ничтожные для него обстоятельства. В-третьих, в интересах экономии и практических нужд процесса [15, с. 227–228]. М. В. Духовский указывал на объем и количество доказательств, требуемых для дела, поясняя, со ссылкой на А. Ф. Кони, что «старый порядок суда не содержал указаний на пределы исследования преступного деяния, – он, по-видимому, дозволял доказывать в деле все, но не всеми способами, ограничивая последние разными условиями. Новый порядок, установив точную формулировку обвинения на суде, дозволил доказывать не все, а лишь то, что входит в область исследуемого деяния обвиняемого, но допускает доказывать это всеми способами» [5, с. 204]. Позднее, уже в советских работах появляется термин «пределы расследования». А. Я. Вышинский указывал, что «следствие и суд должны в зависимости от конкретных условий и обстоятельств определить пределы расследования, сами должны решать в каждом конкретном случае, что важно, что полезно, что необходимо включить в поле своего внимания, сделать предметом исследования. Все попытки заранее определить, какие обстоятельства могут иметь значение для дела и какие не могут, обречены на неудачу, особенно в уголовных делах, где сложность и запутанность положений встречаются чрезвычайно часто» [4, с. 158]. Первые работы о пределах доказывания Г. М. Миньковского «Пределы доказывания в уголовном процессе (1956 г.), И. Б. Михайловской «Предмет и пределы доказывания в советском уголовном процессе» (1958 г.) появляются только в середине ХХ века.
Современный анализ существующих теоретических воззрений на понятие «пределы доказывания» показывает, что это менее устоявшаяся категория в теории доказывания, и среди ученых-процессуалистов нет единого понимания указанного термина. Уголовнопроцессуальное законодательство не содержит понятия «пределы доказывания», равно как и другие отрасли юридического процесса. Предпосылкой формирования данного понятия является законодательное положение ч. 1 ст. 88 УПК РФ, согласно которому все собранные доказательства подлежат оценке в совокупности, то есть с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела. Подобная оценочная формулировка существенно затрудняет возможность нормативного закрепления рассматриваемого понятия, очевидно, что пределы доказывания не могут быть заданы нормативными рамками сразу по всем уголовным делам. Ю. П. Боруленков отмечает: «Определение пределов доказывания – вопрос факта, задач рассмотрения конкретного юридического дела» [3]. В контексте выяснения особенностей пределов доказывания в суде с участием присяжных заседателей необходимо отметить позицию О. И. Бойченко: «Пределы доказывания в стадии судебного разбирательства формируются посредством осуществления непосредственного исследования, проверки и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. При этом, во-первых, в отличие от досудебного производства пределы доказывания в стадии судебного разбирательства детерминированы пределами судебного разбирательства, и, во-вторых, пределы доказывания зависят от возможностей доказательственной деятельности суда и сторон в ходе судебного заседания» [2, с. 139]. А. О. Машовец верно отмечает, что «суд не вправе выходить за пределы предъявленного обвинения при определении предмета и предела судебного следствия, а также предмета судебного допроса. В состязательном процессе предмет спора, обвинение и пределы его исследования определяются сторонами в соответствии с законом…» [11]. Представляется, что пределы доказывания в суде с участием присяжных заседателей характеризуются только существующими в наличии допустимыми доказательствами.
В уголовном процессе сложились основные подходы к пониманию пределов доказывания. Существует мнение о том, что данная категория является количественной и (или) качественной [3, 6, 16]. Анализ научной и учебной литературы показывает, что ряд понятий пределов доказывания трактуются с позиции совокупности доказательств, достаточных для выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания [1, с. 47; 7]. Оче- видно, что традиционная трактовка пределов доказывания не отвечает специфике суда с участием присяжных заседателей, которая заключается в том, что члены коллегии присяжных, будучи судьями факта, не исследуют всю совокупность доказательств, необходимых и достаточных для установления обстоятельств, образующих предмет доказывания. Не исследуются факт прежней судимости подсудимого, вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, обстоятельства допустимости тех или иных доказательств. Как отмечает Д. В. Зотов, «процессуальная совокупность не может представлять разрозненный набор доказательств без логических связей между собой» [6].
-
Н. Г. Кемпф под пределами доказывания в суде с участием присяжных заседателей понимает « объем (выделено нами – И. Д.) допустимых доказательств, достаточный для формирования внутреннего убеждения присяжных заседателей в установлении фактических обстоятельств дела – события преступления и вины лица, его совершившего, – и вынесения вердикта» [8, с. 71]. С одной стороны, очевидно, что данное определение вступает в противоречие со ст. 17 УПК РФ, в которой указано, что присяжные заседатели оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. С другой стороны, как уже указывалось ранее, категория «совокупность» не отвечает процессуальным требованиям к суду с участием присяжных заседателей. Однако необходимо отметить, что автор, рассуждая о беспристрастном вердикте суда присяжных, указывает, что он все же «основывается на совокупности (выделено нами – И. Д.) имеющихся в уголовном деле доказательств» [8, с. 7].
Рассматривая вопрос пределов доказывания в суде с участием присяжных заседателей, нельзя обойти стороной субъективную сторону восприятия судебного заседания присяжными заседателями. Основная задача судей факта видится в познании степени доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Рассуждая о познавательной деятельности коллегии присяжных заседателей, Д. П. Туленков указывает, что «пределы судебного познания в суде с участием присяжных заседателей, по существу, являются теми же, что и при осуществлении правосудия в иных формах» [14, с. 128]. С данным утверждением можно поспорить. Одно из направлений философских теорий познания – эмпиризм – сводит информационное обогащение к научению и прошлому опыту. В современном виде оно заключается в том, что наш мозг накапливает информацию в виде следов, образов памяти или в виде отношений, психических установок, общих идей, понятий, и эти следы прошлого участвуют в нашем восприятии. Иными словами, все знания приходят из прошлого опыта (профессиональное чутье, наитие и пр.), которые соединяются с настоящим. В данном случае очевидно, что познавательная деятельность присяжных заседателе, осуществляемая с помощью психических процессов, будет в значительной мере отличаться от познавательной деятельности председательствующего судьи.
С. А. Насонов, определяя специфику пределов доказывания в суде с участием присяжных заседателей, видит ее в полном исключении определенных доказательств из круга исследуемых в судебном заседании, отмечая, что в суде присяжных определенные доказательства могут быть не исследованы вообще, как до, так и после вердикта, приводя в пример так называемые «шокирующие доказательства», и предлагает дополнить ч. 2 ст. 75 УПК РФ указанием на возможность исключения «шокирующих доказательств» в суде с участием присяжных заседателей [13, с. 96]. Данное предложение С. А. Насонов обосновывает позицией П. А. Лупинской, указывавшей на тесную взаимосвязь допустимости доказательств с нравственными началами судопроизводства, вследствие чего в ряде случаев именно нравственные принципы выступают критерием допустимости доказательств [13, с. 280–281]. Однако данная позиция имеет свои недостатки. Во-первых, следуя логике автора так называемые «шокирующие доказательства» являются «безнравственными». Во-вторых, суд присяжных рассматривает уголовные дела, в том числе об особо тяжких преступлениях (например, убийство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля и др.), и вся информация изначально может быть «шокирующей» для одного человека и не оказывать особого эмоционального воздействия на другого. В-третьих, автор не определяет критерии, по которым можно определить степень воздействия
«шокирующего доказательства» на конкретного присяжного заседателя. Представляется, что подобный избирательный подход и неиспользование в деле доказательств, которые можно счесть «шокирующими», могут повлиять на познание степени доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и формирование внутреннего убеждения присяжных заседателей, что повлечет за собой невозможность перехода в их достаточность для вынесения вердикта и постановления законного, обоснованного и справедливого приговора.
Поскольку пределы доказывания формируются посредством осуществления непосредственного исследования, проверки и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, и зависят от возможностей доказательственной деятельности суда и сторон в ходе судебного заседания, следует учитывать законодательное ограничение исследования данных о личности подсудимого с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется, а также запрет исследования фактов прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, запрет исследования иных данных, способных вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого (ч. 8 ст. 335 УПК РФ). На сегодняшний день «для судебного следствия, проводимого с участием присяжных заседателей, характерна проблема практически неограниченной степени усмотрения председательствующего по всем возникающим вопросам» [10]. На практике исследование данных о личности подсудимого присяжными заседателями и включение их в пределы доказывания являются законными, если эти данные позволяют установить мотив преступления. Так, Верховный Суд РФ в кассационном определении от 11 июня 2016 г. № 67-О13-36СП признал законным исследование в присутствии присяжных заседателей факта службы подсудимого в спецназе в «горячих точках», а также его деятельности в частном охранном предприятии, так как эти обстоятельства были непосредственно связаны с установлением причастности подсудимого к совершению преступления и мотивов его поведения. В другом случае Верховный Суд РФ в кассационном определении от 11 мая 2005 г. № 93-О05-5СП признал законным то, что государственный обвинитель в присутствии присяжных заседателей зачитал приговор суда в отношении подсудимого по иному делу, так как факт прежней судимости был напрямую связан с мотивом совершения преступления. По всей видимости, по указанным делам без исследования данных доказательств невозможно было достигнуть пределов доказывания.
Спорным представляется положение ч. 8 ст. 335 УПК РФ, согласно которому запрещено исследовать «иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого». Неопределенность формулировки «иные данные» позволяет председательствующему судье не допускать до суда присяжных существующую в наличии информацию, даже в случае, когда определенные обстоятельства могут и должны быть исследованы. Указанное обстоятельство также может негативно повлиять на переход существующих допустимых доказательств в их достаточность для познания степени доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и формирования внутреннего убеждения присяжных заседателей, вынесения вердикта и постановления законного, обоснованного и справедливого приговора.
В завершение необходимо отметить, что, во-первых, пределы доказывания имеют немаловажное значение при исследовании фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве в суде с участием присяжных заседателей.
Во-вторых, расширительное толкование правовой нормы, закрепленной в ч. 8 ст. 335 УПК РФ, может привести к сужению пределов доказывания до степени, когда по уголовному делу не состоится переход доказательств из количества в качество. Подобное игнорирование законов диалектической логики способно нарушить основополагающее право человека на справедливое судебное разбирательство, на вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора.
В-третьих, пределы доказывания в суде с участием присяжных заседателей характеризуют существующее наличие допустимых доказательств, достаточных для познания степени доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и формирования внутреннего убеждения.
Список литературы Особенности пределов доказывания при производстве в суде с участием присяжных заседателей
- Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005. 497 с.
- Бойченко О. И. Пределы доказывания по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. 184 с.
- Боруленков Ю. П. Понятие «пределы доказывания» должно соответствовать концепции состязательного судопроизводства // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2014. № 1. С. 39–41.
- Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М.: МКЮ СССР, 1941. 219 с.
- Духовский М. В. Русский уголовный процесс. М.: Типография А. Павловского, 1910. 447 с.
- Зотов Д. В. Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве (исследование с позиции разумного формализма) // Журнал российского права. 2016. № 2. С. 105–117.
- Кудрявцева А. В. Теория доказывания в юридическом процессе: учебное пособие. Челябинск: Издательство ООО «Полиграф мастер», 2006. 186 с.
- Кемпф Н. Г. Проблемные вопросы исследования фактических обстоятельств дела в суде с участием присяжных заседателей: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 228 с.
- Лупинская П. А. Проблемы допустимости доказательств при рассмотрении дел судом присяжных // Рассмотрение дел судом присяжных. Варшава: БДИПЧ ОБСЕ, 1997. С. 91–124.
- Машовец А. О. К вопросу допустимости исследования доказательств в ходе судебного следствия перед присяжными заседателями // Эволюция государства и права: история и современность: сб. науч. ст. II Междун. науч.-практ. конф. Курск, 2017. С. 403–408.
- Машовец А. О. Содержание доказывания, осуществляемое в ходе судебного разбирательства уголовного дела // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2015. № 3. С. 120–122.
- Миньковский Г. М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе. М.: Го-сюриздат, 1956. 115 с.
- Насонов С. А. Концептуальные основы производства в суде с участием присяжных заседателей: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2021. 517 с.
- Туленков Д. П. Познавательная деятельность при производстве по уголовным делам с участием присяжных заседателей: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 253 с.
- Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб.: Сенатская типография, 1910. 583 с.
- Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Норма, 2022. 220 с.