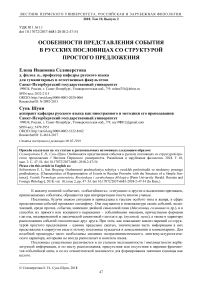Особенности представления события в русских пословицах со структурой простого предложения
Автор: Селиверстова Елена Ивановна, Шуян Сунь
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 2 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
К анализу понятий «событие», «событийность», «ситуация» и других и выделению признаков, приписываемых событиям, обращаются при интерпретации текста многие ученые. Пословица, будучи знаком ситуации и принадлежа к текстам особого типа и жанра, в сфере представления событий проявляет специфику. Она ощущается в номенклатуре самих событий, включающей, среди прочих, события, имеющие двойной смысловой план (Масленица, солнышко и др.), и в способах их прямого или косвенного выражения - событийными именами, причастными формами глагола, видовременной и лексической семантикой глагола и др. (пуганый, мука), а также в характере расположения событий относительно друг друга. При этом, как показывает анализ паремий со структурой простого предложения - единиц предельно сжатых, значительная часть информации в них представлена в свернутом виде и потому пословица нуждается в домысливании и комментариях. Для подобной процедуры часто необходимы сведения экстралингвистического, лингвокультурологиче-ского характера, которыми не всегда располагает и носитель языка. Пословицы существенно различаются и по степени эксплицитности / имплицитности вербализуемой информации, и по месту расположения, присутствия или отсутствия в паремии фрагментов событийной цепи, и по их семантической значимости для формирования значения единицы как целого. Статья, посвященная изучению паремий со структурой простого предложения с точки зрения событийности, проливает свет и на характер формирования их содержания и его кодирования. Обнаруженные закономерности не являются национально маркированными, они присущи паремиям как единицам фольклорного жанра.
Пословица, событие, ситуация, событийное имя, простое предложение, временные и причинные связи, эксплицитность, имплицитность
Короткий адрес: https://sciup.org/147226903
IDR: 147226903 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-2-47-54
Текст научной статьи Особенности представления события в русских пословицах со структурой простого предложения
Будучи чрезвычайно ёмкими и обладая сложной внутренней структурой, пословицы и поговорки вызывают большой интерес лингвистов, паремиологов и фольклористов, поскольку «при своей видимой простоте представляют собой весьма непростые образования» [Пермяков 1970: 8]. В данной статье мы обратимся к пословичным единицам (ПЕ) в форме простого предложения, поскольку, во-первых, пословицы с такой структурой являются, согласно данным З. К. Тар-ланова, самыми частотными [Тарланов 1970: 10] и, во-вторых, важной представляется следующая отмеченная им зависимость: «Чем меньше объем пословицы, тем больше вероятность использования ее в большем количестве ситуаций» [там же: 6], т. е. и простая синтаксическая структура ПЕ предполагает весьма сложные и разнообразные семантические особенности ее применения.
В ПЕ, хотя в них часто видят лишь единицы «назидательного жанра», отражаются основные черты и связи происходящего в действительном мире. Референтами пословиц и поговорок являются события и ситуации реальной действительности. При этом ситуации «отражаются в сознании языкового коллектива не целиком, а выделяются лишь отдельные черты, связи, присущие ситуациям». Они и составляют денотат ПЕ [Кип-сабит 2002: 49].
Событием считается некое изменение исходной ситуации: внешней ситуации в повествуемом мире (естественные, акциональные и интеракци-ональные события) или внутренней ситуации того или другого персонажа (ментальные события). В художественном (нарративном) произведении представление о событийности связано с рядом признаков – c релевантностью происходящего изменения, необратимостью, неповторя-емостью, переменой взглядов героя и др. (см. подробнее: [Шмид 2003: 10–13]).
В широком смысле к событиям относят все, что происходит, случается в мире. В более узком смысле событие есть «разновидность (наряду с процессами и состояниями) событий в широком смысле» [Булыгина, Шмелев 1997: 108]. Наиболее активно категория событийности – в разных ее аспектах – исследуется на материале языка СМИ [Демьянков 2004].
Сопоставляя события с категорией факта и понятиями «ситуация», «процесс», «действие»,
М. А. Степанова определяет событие как «динамическое явление, представляющее собой личностно или социально значимое изменение состояния через проявление объектом некоторого своего свойства во времени и пространстве, либо через изменение количества или качества объектов, их свойств и отношений» [Степанова 2003: 5].
На происходящие события, занимающие особое место на оси жизни человека, можно взглянуть с трех точек зрения. Событие, во-первых, часто указывает на происшедшее; во-вторых, имевшие место события могут представляться точечными или развернутыми; в-третьих, маркированное событие не только уже произошло, оно может повторяться, т. е. опыт и оценки, накопленные за счет происходящих событий, могут маркировать и будущие сходные ситуации (см. подробнее: [Радзиевская 1981]).
Философский подход позволяет трактовать «событие» и «ситуацию» в качестве разных терминов, обозначающих одно или то же явление, осмысляемое по-разному. «О ситуации говорят, когда указывают на континуальность настоящего, о событии – когда указывают на происшедшее». Тогда «всякое событие является завершенной ситуацией, а всякая ситуация после завершения станет событием» [Тихонова 2002: 63].
В рамках гуманитарного подхода к постижению событийности и ситуационности бытия событие признается личностным, обладающим именем и смыслом. Эта триада «делает событие событием, а не моментом существования среди других моментов» [Липатова, Агапова 2014: 9]. Ученые видят в событийности «социальноантропологический феномен, конституирующий определенную форму истории, тип культуры». Ситуационность же видится в процессуальности событийности [там же]. В лингвистике «ситуация используется в качестве инструмента лингвистического анализа при описании события» [Жемчужникова 2016: 69].
Разработка теории событийности стала основанием для выделения категории непредметных объектов (НО), с помощью которых описывается событие. По мнению Н. Ю. Арутюновой, больше оснований говорить о событии тогда, когда непредметные объекты – процесс, действие, состояние, ситуация и др. – «налагаются друг на друга, частично пересекаются, следуя друг за другом. Событийная сущность непредметных объектов входит в иную последовательность и в иные отношения с другими объектами на оси времени» [Арутюнова 1988: 198].
Помимо связей между НО в рамках события (событий), явленных в динамике на оси времени и познаваемых через изменения, следует помнить и о важных компонентах восприятия события – причинных признаках, прочно связанных с изменениями. Как пишет Б. В. Томашевский, «чем слабее причинная связь, тем сильнее выступает связь чисто временная» [Томашевский 1999: 109]. Данную точку зрения можно сформулировать иначе: чем слабее временная связь в событиях, тем сильнее выступает связь причинная.
Способность человека к осмыслению событий ведет к формированию концептуального представления о событии, появлению событий-идей (см. подробнее: [Демьянков 1983, 2004]). Так, в шутливой ПЕ Один переезд равняется двум пожарам присутствуют два событийных имени, позволяющих представить и соотнести масштаб наносимого человеку урона.
Возможность опустить конкретику в описании действий, относящихся к некоей ситуации и формирующих ее, обеспечивается наличием в сознании индивида «абстрактного структурированного концепта – фрейма событийной ситуации» [Тихонова 2002: 99]. Событийное имя (СИ) номинирует прототипическую модель события, формируемую на основе личного и коллективного обобщенного опыта. СИ объединяют именные и глагольные категории и способны «представлять фрагмент действительности, именуемый событием, со всеми его разнообразными характеристиками, как целостный факт» (см. подробнее: [Степанова 2003, 2014]).
Событийные имена – такие как пожар, дождь, война, женитьба и др. – представлены в значительном количестве и в ПЕ: Экая пасха – шире рождества ; Маслена широко разлилась: затопила великий пост ; После драки кулаками не машут; После бани , хоть займи, но выпей; Торг без глаз, а деньги слепы: за что отдаешь, не видят; Долгие проводы – лишние слёзы и др.
Помимо СИ, сообщающих о событиях и связях между ними, к показу динамических фрагментов мира призваны глаголы. По мнению Н. Б. Лебедевой, «план содержания, соотносимый с глагольной формой, представляет собой полиситуативный, полисобытийный комплекс» [Лебедева 2012: 224].
Исключая ПЕ из фольклорных жанров, в которых на первое место выступает информационная функция, – былин, сказок и др., Д. Н. Мед- риш относит ее к паремиологическим жанрам, отмеченным «наибольшей словесной характерностью и устойчивостью», где на первый план выступает слово (см. подробнее: [Медриш 1980]). ПЕ, обращаясь к реальности, к лицам и событиям, трансформирует их, «выворачивает» – для включения их в свой фольклорный мир [Путилов 2003: 36]. К паремиям в большой степени относятся такие особенности фольклорного отражения события, как уплотнение, сокращение, минимальная продолжительность событийного времени, т. е. дистанция между первым и последним по времени событием (фазами одного события), изображенным в тексте, и его дискретность: оно может быть представлено «в определенные, разделенные промежутками моменты» (см. подробнее: [Медриш 1980]).
Недостающее (пропущенное) в ПЕ легко восстанавливается, поскольку в человеческом сознании структура реального события концептуализируется такой, какой интерпретатор ее себе представляет – в том или ином аспекте, с полным или неполным набором участников и т. д. [Колесов 2007: 5].
Выбор предмета исследования в данной статье объясняется спецификой выражения событийности в ПЕ, построенных по модели простого предложения: они ёмки и сжаты; в отличие от сложных предложений, для них в большой степени характерно точечное ( От огня и камень треснет ), а не развернутое изображение события; эти структуры содержат лишь одну предикативную основу, с помощью которой, как правило, выражаются непредметные объекты.
Общепринятым является положение, признающее вслед за Г. Л. Пермяковым в пословице «знак ситуации» [см. подробнее: Пермяков 1988]. Важно, однако, заметить, что во многих случаях правильнее говорить о смене ситуаций , об известной динамике происходящего, пусть и не в полной мере выраженного в ПЕ вербально, об изменении в некоторых пространственновременных рамках . Поскольку речь идет преимущественно о последовательности в развертывании события на оси времени, мы заострим внимание на временном аспекте и обратимся к ПЕ, содержащим динамические признаки события. При этом в композиционной структуре ПЕ временной маркер может быть вербально выражен или не выражен.
Первый способ представления события отмечен нами в ПЕ, где признак последовательности в развертывании события представлен имплицитно: паремия рисует лишь одну ситуацию – начальную или конечную, а вторая отсут- ствует, но может быть выведена логически – при наличии некоторого опыта декодирования подобных текстов. ПЕ Цыплят по осени считают – «О чем-либо судят лишь по конечным итогам. Говорится тому, кто преждевременно судит о результатах чего-либо» (Жук., 347) – была бы совершенно непонятной при отсутствии фоновой информации, содержащей сведения о процессе выращивания цыплят и возможных при этом потерях. В ПЕ образно представлена лишь фаза финального (по осени) подсчета уцелевших цыплят, символизирующих степень успешности некоего задуманного предприятия, а фазы появления цыплят на свет весной и частичное их «исчезновение» остаются скрытыми. Таким образом, из всех ситуаций в рамках события образно представлена лишь последняя из них, материализующая основание для суждения о важности отсроченных выводов о степени успешности дела. Элементы толкования почти идеально апплици-руются – по В. П. Жукову – на компоненты ПЕ: цыплят (‘итоги’) считают (‘подводят’) по осени (‘по окончании дела’). Несовершенный вид глагола считают, акцентирующий типичность показанной ситуации, реализует и семантику завершенности – ‘посчитаем’, поддерживаемую лексическим показателем по осени. Ср. также ПЕ, непонятные без подробного указания условий их использования, – «говорится, когда…», поскольку ситуация сменяемая новым событием (праздник, солнышко – в их переносном значении) остается имплицитной: И к нам солнышко взойдёт на двор; Будет и на нашей улице праздник и др.
Представление события в ПЕ Капля и камень долбит (точит) видится весьма особенным, поскольку основным выразителем динамики выступает видовое значение глагола. Осмысление ПЕ вытекает из образного представления ситуации: методично падающие одна за другой одиночные капли, способные пробить (продолбить) твердую породу. Благодаря семантике предельности, присущей глаголу, допустимо мысленно увидеть камень продолбленным (финальная ситуация), о чем свидетельствует и толкование ПЕ, хотя на лексическом уровне этот результат не вербализован. В данном случае паремия имплицитно выражает последовательность развертывания события в его движении к конечной фазе. В ПЕ отсутствует конкретная временная направленность (привязка); здесь активизируются «мыслительные процессы абстрагирования времени» [Бондарко 2011: 210].
Чаще, однако, паремия содержит вербально выраженный намек на наличие некой ситуа- ции, логически сменяемой другой (второй тип). В ПЕ Отольются волку овечьи слезки вербально представлена полностью лишь последняя фаза – выраженное глаголом отольются указание на возмездие, неминуемо ожидающее волка, ранее причинившего «вред» овце / овцам. Причины наказания выражены частично (овечьи слезки), а сама же сцена «овечьего плача» – первая из ситуаций – остается «за кадром», хотя она, безусловно, очевидна для тех, кто понимает суть отношений, вербализуемых элементами паремийно-го бинома «волк–овца» (ср.: «корова – медведь», «мышь – кошка» и др.): ‘хищник – жертва’, ‘обижаемый – наказуемый’ (о паремийных биномах см. подробнее: [Селиверстова 2017]).
Близка по характеру представления события – отсутствию конкретики в первой из двух ситуаций – безóбразная пословица По делам вору и мука . Мука – состояние, вызываемое не конрети-зируемым в ПЕ наказанием, – неминуемо следует за совершенные злодеяния ( дела ). Характер поступков, которые числятся за провинившимся, лишь прогнозируется – в связи с семантическим содержанием слова вор : здесь включается как экстралингвистическое представление о людях этой «профессии», так и реализуемая в паремии идея порочности любой деятельности, подпадающей под воровство (ср.: Злое ремесло на рель занесло – ‘ повесили ’).
Если в предшествующих ПЕ мысль о возмездии увязывается с совершением определенного поступка, то в паремии Кот скребет на свой хребет идея проступка, влекущего неприятности, предельно обобщена – выражается глаголом скребет , а семантический фрагмент наказание вербально представлен фразеологизмом на свой хребет – ‘ себе во вред ’.
По характеру представления последней фазы события сюда можно отнести и ПЕ Отошла коту масленица . Событийное пословичное имя Масленица позволяет связать предшествующую ситуацию (процесс) вольготной сытной жизни и сменившие ее ощутимые ограничения (глагол отошла ), подробности которых в ПЕ отсутствуют. Именно отсутствие детального представления обеих ситуаций делает ПЕ обобщенной, применимой ко множеству различных жизненных коллизий.
Таким образом, в ПЕ данной подгруппы лишь частично представлено выражение последовательности в развертывании события.
Третий тип составляют ПЕ, в которых причастия и прилагательные называют нынешнее свойство, качество субъекта (боязливый, опасливый), являющееся результатом предше- ствующих событий, скрытых от говорящих, но прогнозируемых: Пуганая ворона и куста боится; Битому коту лишь лозу покажи. Более позднее на оси времени состояние / действие является следствием по отношению к первому.
В ПЕ Старый конь борозды не испортит в качестве первой из ситуаций выступает вся долгая предшествующая рабочая жизнь ( старый ), а вторую представляет картина безупречной борозды – любой достойно выполненной работы. В сущности, в паремии скрыты многократные повторения одной и той же ситуации (прокладывания борозды), позволившие наработать в качестве результата бесценный опыт.
В ПЕ Утопающий за соломинку хватается – «В безвыходном положении как к последней надежде на спасение прибегают даже к средству, которое вряд ли может помочь» (Жук., 337) – факт падения в воду вербально не представлен: мы видим тонущего ( человека в безвыходном положении – как результат первой ситуации, нам не известной), который ищет возможность спасения ( выхода ) и готов прибегнуть к любому средству – соломинке как образу последней, пусть призрачной, надежды. В данной ПЕ событийная ситуация представлена более развернуто.
К четвертому типу мы относим ПЕ, в которых структура предложения усложнена за счет однородных членов: Прошёл трёхдневный путь за день и слёг на десять дней; Поп пьяной книги продал да карты купил и др. Однородные сказуемые, выраженные глаголами, эксплицитно представляют последовательно осуществляемые действия , очерчивая две ситуации, в которых оказывается один и тот же субъект: Вздулся пузырь, да и лопнул. Нельзя, однако, не заметить, что характер причинно-следственных связей, если они очевидны, будет между ними в разных ПЕ различным, как отличается и степень дискретности представленного в ПЕ событийного времени. В ПЕ Помнит свекровь свою молодость и снохе не верит две ситуации – молодость свекрови и вызывающая недоверие молодость снохи – разделены весьма значительным интервалом.
К эксплицитно представленным относятся события и в ПЕ, объединенных в пятый тип. В них первая ситуация (начальная фаза события) является условием, выполнение которого ведет ко второй ситуации – результату: От жару и камень треснет, От малой искры да большой пожар. Такое условие может быть выражено событийным именем: От работы кони дохнут. Назидательность ПЕ во многом основана именно на их способности показать результаты «правиль- ного» или «неверного» поведения, ведущего к некой результирующей ситуации: Без труда не вынешь рыбку из пруда.
В ПЕ На кнуте далеко не уедешь выражена зависимость между двумя ситуациями – воздействием на коня только кнутом и малой его способностью перевозить что-либо, кого-либо, которая может обернуться неприятным событием в виде «недостижения» цели и даже падения коня. Смысл ПЕ раскрывается во многом за счет иных единиц паремиологического пространства – ср. выражение близкого содержания в пословице Не корми коня кнутом, а корми его овсом .
Проделанный анализ паремий со структурой простого предложения позволил нам прийти к следующим выводам .
Пословицы как особый тип текста демонстрируют большое разнообразие вариантов представления событий – как четко показывающих значимое изменение объекта, его свойства, состояния и проч., так и намекающих на него.
В отличие от иных поэтических и фольклорных произведений – басни, сказки и др., ПЕ в форме простого предложения моделируют событийные ситуации, в которых – в силу свернутости и предельной краткости текста – полная картина развития события, как правило, вербально не выражена. Будучи знаком ситуации, паремия в образной форме представляет фрагмент (имеющий определенное место в развертываемом событии), осмысление которого в качестве начальной или конечной ситуации предполагает домысливание предшествующего или последующего этапа. Сами эти фрагменты могут содержать фоновую информацию, важную для интерпретации смысла всей пословицы.
Последовательность в развертывании события является комплексным семантическим признаком – в него входят временные и причинные связи, понимание которых в происходящем (благодаря фреймам) помогает коммуникантам восстанавливать отсутствующие звенья события.
Если первый тип представления последовательности событий в ПЕ определяется нами как имплицитный, наиболее нуждающийся для выведения смысла в логических операциях, то второй, содержащий некоторые намеки (По делам вору и мука), – скорее промежуточный. Относительно развернутой последовательностью в рамках события – при общей сжатости ПЕ – следует считать смену двух разных действий (ситуаций), выраженных видовременными и лексическими значениями глаголов и их форм (Пуганая ворона и куста боится) и лексическими значениями событийных имен (От работы кони дохнут) – тре- тий–пятый типы. При этом событийные имена – часто символичные – в ПЕ весьма специфичны, вряд ли они могут быть отнесены к таковым в текстах иных жанров (слёзки, работа, солнышко).
Таким образом, анализ способов развертывания паремийного события позволяет получить представление о специфике кодирования достаточно объемного семантического содержания в сравнительно небольшом тексте пословицы. Последовательность и связь событий в ПЕ интерпретируется во многом на уровне логического смысла, определяемого жизненным опытом говорящих. Для человека, не знакомого с паремией – тем более инофона, расшифровка значения ПЕ представляет особые трудности и требует комментариев.
Saint Petersburg State University
7/9, Universitetskaya naberezhnaya, St. Petersburg,
ResearcherID: N-2892-2013
Sun Shuyang
Postgraduate Student in the Department of Russian as a Foreign Language and Methods of Its Teaching Saint Petersburg State University
7/9, Universitetskaya naberezhnaya, St. Petersburg,
ResearcherID: U-4614-2017
Submitted 06.02.2018
In many researches dealing with interpretation of text, scholars (linguists, cognitivists, folklorists and others) often pay much attention to the concepts “event”, “eventfulness”, “situation” etc. and their characteristics.
Proverbs, which belong to texts of a special type and genre, have specific characteristics of the representation of events. They become apparent in the nomenclature of the events themselves, including, e. g. those having a double semantic plan ( Pancake week, sunshine , etc.), in the ways of their direct or indirect expression – by means of event names, participial verb forms, aspectual and lexical verb semantics and others (frightened, anguish), as well as in the nature of the arrangement of events in relation to each other. At the same time, as the analysis of proverbs with the structure of a simple sentence (units, which are extremely compressed) shows, a significant part of the information is presented in them in the compressed form, and therefore the proverb needs to be thought out and commented. For such a procedure, one needs extralinguistic and linguocultural information, which the native speaker does not always possess.
Список литературы Особенности представления события в русских пословицах со структурой простого предложения
- Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 347 с
- Бондарко А. В. Временная локализованность//Теория функциональной семантики/под ред. А. В. Бондарко. Изд. 6-е. М.: Кн. дом «ЛИБРО-КОМ», 2011. С. 210-233
- Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Языки рус. культуры, 1997. 576 с
- Демьянков В. З. Семиотика событийности в СМИ//Язык средств массовой информации/под ред. М. Н. Володиной. М.: Академ. проект, Альма матер, 2008. С. 71-75
- Жемчужникова А. К. Функционирование и трансформации событийной ситуации//Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 2016. Т. 13, № 1. С. 69-72
- Кипсабит К. Н. Структурно-семантические особенности русских пословиц и поговорок с пространственно-временными характеристиками: дис.... канд. филол. наук. М., 2002. 160 с
- Колесов И. Ю. О связи между ментальной репрезентацией, концептуализацией референтной ситуации и пропозицией как формами представления знания//Вопросы когнитивной лингвистики. 2007. № 2(011). С. 5-10
- Лебедева Н. Б. Ситуатема как динамическая, полиситуативная и полисобытийная структура глагольной семантики//Вестник КемГУ. 2012. № 4(52), т. 1. С. 224-227
- Липатова О. А., Агапова О. Д. Событийность и ситуационность в гуманитарной перспективе//Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 4. С. 9-12
- Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1980. 296 с
- Пермяков Г. Л. Основы структурной паремиологии. М., 1998. 236 с
- Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. М.: Наука, 1970. 244 с
- Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. М.: Наука, 2003. 464 с
- Радзиевская Т. В. Функционально-семантические закономерности соединения слов в предложении: дис.... канд. филол. наук. М., 1981. 201 с
- Селиверстова Е. И. Пространство русской пословицы: постоянство и изменчивость/науч. ред. В. М. Мокиенко. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. 296 с
- Степанова М. А. Когнитивные аспекты перевода: структурная модель события//Югра, Сибирь, Россия: политические, экономические, социокультурные аспекты прошлого и настоящего: сб. ст. и материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Нижневартовск, 24-26 окт. 2013 г.)/отв. ред. Н. М. Перельгут. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. С. 48-51
- Степанова М. А. Событийные имена и их роль в организации дискурса: автореф. дис.. канд. филол. наук. Барнаул, 2003. 21 с
- Тарланов З. К. Синтаксис русских пословиц: автореф. дис.... д-ра филол. наук. Л., 1970. 34 с
- Тихонова В. В. Актуализация темпоральных отношений в событийной ситуации: дис.. канд. филол. наук. Барнаул, 2002. 135 с
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие. М.: Аспект-Пресс, 1999. 334 с
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки слав. культуры, 2003. 312 с