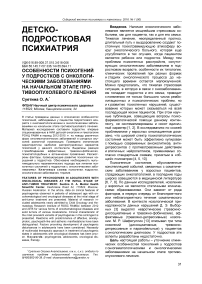Особенности психогений у подростков с онкологическими заболеваниями на начальном этапе противоопухолевого лечения
Автор: Суетина О.А.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Детско-подростковая психиатрия
Статья в выпуске: 1 (90), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье приведены данные о клинических особенностях психогений, наблюдаемых у пациентов подросткового возраста с онкогематологическими и онкологическими заболеваниями на начальном этапе противоопухолевого лечения. Материал исследования составили подростки, впервые стационированные в НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ РАМН в период 2012-2015 гг. по поводу различных форм онкогематологических заболеваний и солидных опухолей различной локализации. Приведена клиническая характеристика наиболее распространённых вариантов психогений у данного контингента. Выделены реакции с преобладанием аффективных, тревожно-фобических, психопатоподобных и астенических проявлений. Рассмотрены факторы, провоцирующие развитие психогенных нарушений у подростков. Обоснована необходимость мультимодального терапевтического подхода при лечении психогенных состояний у подростков с онкологическими заболеваниями
Психогении, подростки, онкологические заболевания, терапия
Короткий адрес: https://sciup.org/14295876
IDR: 14295876 | УДК: 616.89-008.37.015.3:616-006
Текст научной статьи Особенности психогений у подростков с онкологическими заболеваниями на начальном этапе противоопухолевого лечения
Психогенные состояния, обусловленные констелляцией событий, связанных с соматическим заболеванием у взрослых пациентов, страдающих онкопатологией, в последние годы широко освещаются в медицинской литературе [6, 7, 8]. По данным исследователей, нозогении у взрослых не являются статичными клиническими образованиями. Они зависят от ряда факторов, в первую очередь от благоприятного или неблагоприятного течения соматического заболевания. В контексте нозологической принадлежности данных нарушений Д. Э. Выборных [3] выделял невротические (тревожнодиссоциативные и тревожно-фобические), аффективные (тревожно-депрессивные) нозоге-нии. М. Р. Шафигуллин [13] описывал три типа нозогений (диссоциативные, тревожнодепрессивные и паранойяльные) у пациентов с онкологическим диагнозом. У подростков эти аспекты разработаны недостаточно.
Цель настоящей работы – уточнение клинических особенностей психогений у подростков с онкогематологическими и онкологическими заболеваниями на начальном этапе противоопухолевого лечения.
Материалы и методы. Обследовано 29 пациентов в возрасте 15–18 лет (средний возраст составил 16,1 года), впервые стационирован-ных в НИИ детской онкологии и гематологии «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» в период 2012— 2015 гг. по поводу различных форм онкогема-тологических заболеваний (лимфома: лимфогранулематоз и неходжкинская лимфома, лейкоз: острый лимфобластный лейкоз, острый миелобластный лейкоз) и солидных опухолей различной локализации. Первичная госпитализация совпадала с началом противоопухолевого лечения (полихимиотерапия, облучение) у всех обследованных. Данная группа сформирована из числа подростков, обратившихся к психиатру в начальный период лечения с жалобами на различные нарушения психического здоровья, у которых были выявлены психогенные нарушения различной степени тяжести.
В работе использовались клинический, кли-нико-катамнестический методы с привлечением данных из доступной медицинской документации, сведений, полученных от родителей, врачей, медперсонала. Состояние пациентов оценивалось по шкале CGI (шкала общего клинического впечатления), использовалась шкала для диагностики астении (предложенная И. Шац) и шкала HADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии).
Результаты и обсуждение. Выявленные психогенно обусловленные непсихотические состояния представлены спектром психопатологических нарушений, которые согласно МКБ-10 отвечали критериям рубрики F43.2 «Расстройства адаптации». Общими особенностями наблюдаемых психогенных реакций являлись их незначительная глубина, нестойкость психопатологических симптомов. К особенностям подростковых психогений можно отнести и постепенное, в течение нескольких дней, оформление психопатологических симптомов без начальных аффективно-шоковых проявлений, развивающихся у взрослых пациентов после сообщения им диагноза.
Наблюдаемые психогении были представлены преимущественно аффективными (24 че-лочека) проявлениями. Симптоматика тревожно-фобического ряда обнаружена у многих пациентов, но чаще в качестве акцессорной, и выявлялась, как правило, во время расспроса. Реакции с преобладанием тревожнофобических нарушений отмечались у 3 больных. Психогенные нарушения у обследованных подростков нередко сопровождались расстройствами поведения, которые в большинстве случаев выступали компонентом полиморфного реактивного образования, но только у двоих больных определяли клиническую картину психогенных нарушений (психопатические реакции). Невротические диссоциативные реакции, считающиеся часто встречаемым вариантом нозогений у взрослых пациентов с различными формами онкозаболеваний [15, 16], практически не встречались у обследованных нами подростков. Можно отметить лишь диссоциативные «включения» в структуре депрессивных реакций некоторых пациентов с преморбидными особенностями истерического и шизоидного круга.
Клиническое оформление и течение наблюдаемых реактивных образований определялось не столько динамикой основного заболевания (как у взрослых пациентов), сколько сочетанием собственно реактивно обусловленных расстройств с особенностями личностных проявлений. В зависимости от характерологического склада в одних случаях можно было отметить усиление замкнутости, углубление сенситивности, ранимости, тревожности с появлением ипохондрических опасений, в других – отрицание проблем, нежелание учитывать состояние здоровья при планировании дальнейшей жизни, активный протест с агрессией, аутоагрессией. Наличие смертельной болезни хотя и осознавалось и даже артикулировалось всеми обследованными подростками, но преломлялось в их сознании, прежде всего, как угроза успешному социальному функционированию, общению с лицами противоположного пола, признанию и принятию референтной группой. Свободный доступ к специальной, в том числе медицинской литературе обеспечивал высокую информированность подростков относительно лечения и прогноза онкологического заболевания. Однако они всячески избегали затрагивать тему вероятности смертельного исхода в беседах с врачами, зачастую искали ответы на этот вопрос в интернете (чтение медицинских справочников, изучение диалогов на форумах), обсуждали между собой. Чем старше был подросток, тем полнее осознавалась опасность заболевания, тем более высокую ступень в иерархии психотравмирующих обстоятельств занимала собственная болезнь, которая воспринималась во временной перспективе как угрожающая не только в настоящей жизни, но и имеющая негативное влияние на будущую жизнь.
Ведущими из факторов, провоцирующих развитие психогенных реакций у обследованных пациентов, являлись обстоятельства, связанные с нарушением в результате заболевания межперсональных отношений. Подростки переживали, прежде всего, утрату привычных взаимоотношений со сверстниками, опасались, что из-за длительной изоляции «могут стать изгоем» среди одноклассников, боялись огласки своей болезни среди ровесников, непонимания и неприязни со стороны друзей, стеснялись негативных изменений во внешности.
Особо значимыми для подростков оказывались опасения потерять привлекательность, сомнения в возможности поддерживать прежний уровень физической активности и продолжать широкое общение со сверстниками. Для пациентов с солидными опухолями на начальных этапах лечения ведущее значение имела вероятность серьезных внешних дефектов (ампутация конечностей, костные дефекты лица и тела), которые так же расценивались подростками как препятствие для дальнейших межперсональных контактов, возможности получить образование, устроиться на работу. После проведения органосохраняющих операций эти переживания большей частью дезактуализировались.
Негативные события в социальной жизни подростков, находящихся на лечении в онкологическом стационаре, существенным образом влияли на их психическое состояние, видоизменяя, а часто усугубляя симптомы психогений. Неоднократно приходилось наблюдать как известия о неблагоприятных событиях школьной жизни, затрагивающие непосредственно подростка (неаттестация, оставление на второй год и др.), дружеские и личные отношения на длительное время становились ведущими в переживаниях пациентов, «затмевая» ежедневные негативные события, связанные с лечением соматического недуга.
Распространенными, выявлявшимися у всех обследованных, были симптомы астении, которая, по мнению ряда исследователей, представляет собой один из наиболее распространенных типов соматогений [9]. В то же время астения относится к наиболее частым нейроп-сихиатрическим побочным эффектам химиотерапии [13, 14].
Астенические нарушения имели различные закономерности развития и неидентичные клинические проявления у подростков с онкогема-тологическими и онкологическими заболеваниями. Астенический синдром у больных с гемобластозами доминировал на начальном этапе онкологического заболевания, зависел от стадии, тяжести болезни, уровня интоксикации и в какой-то степени маскировал и замедлял развитие психогенных нарушений. Симптомы астении у пациентов с онкогематологическими заболеваниями, как правило, имели место задолго (от полугода до 1,5 лет) до верификации диагноза. На начальных стадиях процесса преобладали явления физической астении с жалобами на выраженную слабость, утомляемость, повышенную потребность в отдыхе и сне, усугубляющиеся по мере развития онко-гематологического заболевания. Лишь по мере уменьшения тяжести физической астении более заметными становились психологические реакции и имевшие место психогенные расстройства.
Астенические симптомы у пациентов с солидными опухолями на начальных этапах заболевания практически не выявлялись или были заметны после значительных физических нагрузок. Клинические проявления астении достигали максимума на фоне полихимиотера-певтического и лучевого воздействия и постепенно редуцировались через 2—4 недели после последнего курса лечения, однако не проходили полностью. Характерными были явления психосоматического параллелизма [16] – усиление астении после химио-, лучевой терапии, прогрессирования опухолевого процесса и обратное развитие при компенсации патологических изменений.
В психическом состоянии пациентов на первый план выступали явления раздражительной слабости, психической и физической истощае-мости, снижение толерантности к нагрузкам, полиморфизм соматовегетативных (головокружения, повышенное потоотделение и др.) нарушений, различные виды диссомний.
Ретроспективный анализ состояния излеченных больных показал, что симптомы астении сохранялись в течение нескольких лет и после окончания противоопухолевой терапии: снижалась выносливость к обычным нагрузкам, отмечались рассеянность, трудности запоминания, подростки нуждались в щадящем режиме обучения. По мере восстановления после проведенного противоопухолевого лечения наблюдалось постепенное уменьшение выраженности астенического симптомокомплекса, при этом темп редукции признаков психической астении (по сравнению с проявлениями физической слабости) был более медленным.
Для уточнения выраженности астенических расстройств у обследованных подростков был использован содержащий прямые утверждения опросник для диагностики астении И. Шаца. Опросник заполнялся пациентами самостоятельно, в течение 15—30 минут.
Несмотря на наличие астенических проявлений, которые подтверждали сами пациенты и их родители в беседе с врачом, при заполнении опросника, содержавшего прямые утверждения, подростки в трети случаев отрицали наличие у себя астенических проявлений, что, возможно, обусловлено активностью психологических защит.
Клинические особенности аффективных (депрессивных) реакций , которые наиболее часто отмечались у подростков, заключались в синдромальной незавершенности и незначительной выраженности депрессивного аффекта. Госпитальная шкала тревоги и депрессии выявляла имевшие место нарушения (суммарный балл 10,2±2), однако не всегда совпадавшие с результатами психиатрического обследования у конкретных пациентов.
Подростки описывали «скуку», «грусть» и объясняли появление тягостных переживаний внешними причинами (дискомфортной больничной обстановкой, отсутствием друзей, интернета и т. п.), при этом постоянной фиксации на негативных эмоциях не происходило. Они искали возможности отвлечься, переключиться, легко шли на контакт с персоналом отделения, а к необходимым процедурам (длительные капельницы, болезненные манипуляции) относились терпеливо и спокойно. Когда депрессивные симптомы были более выраженными, в психическом статусе преобладали подавленность, напряженность, подростки все время проводили в палате, отказывались от общих занятий, предпочитали днями напролет «сидеть» в компьютере. В основном имели место легкие депрессивные симптомы, которые проявлялись незначительно сниженным настроением с некоторой подавленностью, плаксивостью. Лишь у 8 человек выявлены признаки умеренной депрессии, в клинической картине которой преобладали более выраженная подавленность, безрадостность, слезливость, угрюмость, малообщительность, заторможенность, вялость. Длительность большинства депрессивных расстройств не превышала 2 месяца. Легкая депрессивная симптоматика постепенно сходила на нет, без специального лечения. Пациенты с умеренными депрессивными проявлениями нуждались в назначении психофармакотерапии.
Наиболее частыми клиническими типами депрессий лёгкой и умеренной тяжести в обследованном нами контингенте были астенический и тревожный (тревожный и тревожноипохондрический).
Астенодепрессивные нарушения выявлялись как среди онкогематологических пациентов, так и у подростков с солидными опухолями. Состояния обозначались подростками как скука, безразличие, лень при отсутствии выраженного депрессивного аффекта, моторной и идеа-торной заторможенности. При расспросе удавалось выявить утрату привычных интересов, быструю истощаемость при умственном и физическом напряжении, трудность совершения волевых усилий. По утрам доминировали чувство вялости, сниженного тонуса, а вечером – разбитость, усталость. Астеническая симптоматика (стойкое ощущение слабости, повышенная истощаемость) являлась ведущей в жалобах подростков с онкогематологическими заболеваниями, а аффективные расстройства, как правило, не осознавались и ассоциировались с проявлениями телесного страдания. Подростки с солидными опухолями напротив, считали утомляемость, слабость «обычными» побочными эффектами химиотерапевтического лечения и не отождествляли их со своим психологиче- ским состоянием, в отличие от более отчетливо проявлявшихся у них аффективных симптомов.
Несколько реже у обследованных подростков отмечались тревожные депрессии (или, если точнее, депрессия с симптомами тревоги), клиническая картина которых определялась, помимо сниженного аффективного фона, наличием на всём протяжении беспричинной и не-конкретизированной тревоги либо, в единичных случаях, тревоги с ипохондрическими опасениями. В структуре таких реакций в качестве факультативных могли выступать расстройства невротического регистра (фобии, контрастные навязчивые мысли, алгии, реже – редуцированные панические проявления), которые были непостоянными в течение суток. Фабула тревожных переживаний напрямую была не связана с ситуацией болезни, а обозначалась более общими (ожидание беды, неотвратимость несчастья, предчувствие «плохих новостей») категориями. Тревожные расстройства часто никак не проявлялись внешне и были малозаметными для окружающих. Они практически никогда не сопровождались психомоторным беспокойством. Можно отметить, что подростки крайне неохотно, как будто бы стесняясь, рассказывали о своих переживаниях, часто считая их проявлением «слабости характера». Тревожноипохондрические нарушения реализовывались у подростков в виде боязливости, нерешительности, впечатлительности, мнительности.
Опасения ипохондрического содержания были нестойкими и инициировались отрицательной внешней ситуацией (случаи смерти в отделении, плохие результаты анализов, информация о неудачных операциях). Пациенты сообщали об опасениях «подхватить инфекцию», «перетрудить» прооперированную конечность. В статусе больных имела место аффективная неустойчивость с обострениями тревоги на фоне негативных известий или предстоящих лечебных и диагностических процедур.
Известный полиморфизм подростковым депрессивным реакциям придавали имевшие место у некоторых подростков диссоциативные симптомы и различные поведенческие девиации, которые не являлись определяющими, представляя как бы «вкрапления» в них.
Диссоциация реализовалась сомнениями относительно наличия болезни, правильности диагноза, игнорированием симптомов ухудшения соматического состояния либо интерпретацией их в качестве проявления менее тяжелого страдания, например генерализованной герпетической инфекции, а не метастатического поражения легких. При этом данная убежденность существовала как бы параллельно с осознанием больным необходимости лечения и практически не влияла на ход лечебных и диагностических мероприятий.
Нарушения поведения в картине депрессивных реакций у подростков выступали как вторичные по отношению к расстройствам настроения и проявлялись озлобленностью, негативизмом, протестными, истеродемонстратив-ными реакциями, грубостью, эпизодами словесной и физической агрессии преимущественно в адрес близких родственников. Подростки, особенно находящиеся длительное время в условиях стационара, болезненных и травмирующих медицинских манипуляций, высказывали многочисленные претензии по отношению к родителям, грубили, говорили о «непонимании окружающих», желании «отомстить, сделать назло». Характерными для таких девиаций поведения являлись их парциальность и преходящий характер.
На первый план в клинической картине тревожно-фобических реакций у 3 подростков выступали явления генерализованной тревоги с ощущением напряжения, постоянным беспокойством, эмоциональным дискомфортом. Они отмечали преобладающий в переживаниях страх смерти, который обозначался ими как «непоправимое несчастье», «самое страшное». У одного пациента анксиозные расстройства достигали степени панических атак, протекающих со страхом смерти и соматовегетативными симптомами. Тревожная симптоматика расширялась за счет опасений, связанных с возможными нежелательными изменениями привычного жизненного уклада. Типичными являлись усиление тревоги в вечерние часы, нарушения сна и аппетита. Грубые психопатоподобные реакции в рамках психогении, выявленные у 2 пациентов подросткового возраста, привели к стойким нарушениям адаптации. Изменения в поведении отмечались практически сразу же после госпитализации и довольно быстро нарастали по своей интенсивности, занимая через некоторое время определяющее место в картине психогенного состояния. Доминирование в клинической картине поведенческих расстройств над гипотимией было обусловлено неглубоким уровнем поражения собственно аффективной сферы, участием в оформлении синдрома явлений пубертатного криза и конституциональными особенностями. По своей психологической сути они относились к сопровождающим психопатоподобное депрессивное состояние реакциям протеста, характеризовались бурными эмоциональными проявлениями, разрушительными действиями, угрозами. Пациенты обвиняли родителей в желании ограничить свободу, унижали их, бранились, оскорбляли. Прямые агрессивные действия носили характер аутоагрессии. Подростки «назло» курили, употребляли противопоказанные им виды пищи, алкоголь, нарушали режим терапии или вовсе отказывались от лечения, самовольно уходили из клиники, игнорировали требования врачей. Агрессивное поведение являлось проявлением дезадаптивной стратегии преодоления ситуации, попыткой справиться с отрицательными эмоциями.
На всем протяжении стационарного лечения пациентам детского отделения онкологии и гематологии НИИ ДОГ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» и их родителям оказывалась квалифицированная психологическая помощь. Целью психотерапевтической работы являлась профилактика и коррекция психопатологических реакций, снижение эмоционального напряжения, решение ряда психосоциальных вопросов.
В ходе данной работы психотерапевтическая коррекция начиналась с момента обследования и позволяла оказать подростку и его семье поддержку уже на начальном этапе госпитализации. В 17 случаях психотерапия проводилась без применения фармакотерапии и была ориентирована, прежде всего, на психологическое состояние подростка.
Эффективно зарекомендовала себя рациональная психотерапия, включающая выявление проблем, связанных с болезнью, разъяснение, убеждение в положительных результатах, важности настроения и веры в успех самого пациента, приводились многочисленные примеры с использованием случаев из практики. Использовались беседы с родителями с элементами рациональной психотерапии с обсуждением современных возможностей противоопухолевого лечения, тактики поведения с подростком, роли родителей в разъяснениях ребенку сути течения болезни и прогнозов на будущее.
Психотерапия в целом оказывала благотворное влияние на эмоциональное состояние подростков, что положительно сказывалось на основном заболевании. При отсутствии долговременного эффекта психотерапии, ухудшении эмоционального состояния, углублении психопатологической симптоматики рассматривался вариант коррекции с использованием психофармакотерапии.
Психофармакотерапевтическая коррекция проводилась 12 пациентам, параллельно получавшим курсы химиотерапии. При выборе оптимальной психофармакотерапии расстройств адаптации у подростков, страдающих онкологическими заболеваниями, учитывали риск неблагоприятного взаимодействия с противоопухолевой терапией, особенности терапевтического профиля препарата, характер возможных побочных эффектов, безопасность при длительном применении. Помимо того, принималась во внимание плохая переносимость подростками психофармакотерапии, в основе которой лежала нестабильность нейрогормонального фона и повышенная чувствительность к фармакологическим воздействиям. Не менее важным аспектом являлся процесс формирования терапевтической мотивации, преодоление недоверия со стороны пациентов и их родителей к лечению психотропными препаратами. Для лечения наблюдаемых психогенных (прие-мущественно депрессивных) расстройств, применялись разрешенные для использования у подростков современные серотонинергические антидепрессанты (феварин, золофт, пак-сил), мягкие нейролептики (терален, неулептил) и противотревожные препараты (атаракс).
Учитывая немногочисленность данной группы, можно говорить лишь об общих тенденциях, отмечаемых при назначении психотропных препаратов. Следует отметить быструю реализацию антидепрессивного и анксиолитического эффекта назначаемых препаратов, с практически полной редукцией тревожных и депрессивных нарушений в течение 7—10 дней у большинства подростков (9 из 12 человек). Уже на первой неделе приема препаратов все больные отмечали улучшение настроения, общего самочувствия с одновременным уменьшением вялости, подавленности. При этом обращает на себя внимание низкий уровень средних доз, обеспечивших значимый терапевтический эффект: феварин 25 мг/ сут, сертралин 12,5 мг/сут, те-ралиджен 5мг/сут.
Клинически значимых побочных эффектов в ходе терапии психотропными препаратами или их неблагоприятных взаимодействий отмечено не было, что, возможно, объясняется малочисленностью данной группы.
Заключение. У подростков, страдающих онкологическими заболеваниями, обращающихся за помощью к психиатру, выявляемая психопатологическая симптоматика, как правило, представлена психогенными расстройствами непсихотического уровня. Среди психогенных образований в данной возрастной группе преобладают реактивно обусловленные расстройства настроения. Психогенные депрессии у подростков представлены преимущественно астеническими, реже – тревожными и тревожноипохондрическими вариантами. Поведенческие девиации в картине психогений в большинстве случаев выступают как вторичные по отношению к расстройствам настроения. Наблюдаемые у некоторых подростков диссоциативные «феномены» с определенной долей осторожности можно соотнести с диссоциативными расстройствами у взрослых пациентов с онкопатологией.
Эффективность лечебной помощи подросткам на начальных этапах противоопухолевого лечения определяется рациональным сочетанием методов специального (химиотеапевтиче-ского, лучевого) воздействия на онкологический процесс с психофармакотерапевтическим и психотерапевтическим воздействием.
Дальнейшее изучение психогенных нарушений у подростков с онкологическими заболеваниями представляется важным для выделения ранних диагностических и прогностических критериев, уточнения клинической типологии, разработки социально-терапевтической тактики с учетом высокой значимости последствий психологического стресса для лечения и прогноза онкозаболевания и психического здоровья этой когорты пациентов. Развивающиеся у подростков с онкологической патологией реактивные состояния полиморфной структуры требуют мультимодального терапевтического подхода с разработанными и более дифференцированными показаниями к психофармакотерапии, психотерапевтическому, психокоррекционному воздействию.
Л итература
Список литературы Особенности психогений у подростков с онкологическими заболеваниями на начальном этапе противоопухолевого лечения
- Штраус В. А. Психорегуляция учебной деятельности младших подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями: автореф. дис.. к.м.н. -М., 2006. -24 с.
- Киреева И. П., Лукьяненко Т. Э. Психиатрические аспекты в детской соматологии//Научная конференция молодых ученых России, посвященная 50-летию Академии медицинских наук: тезисы докладов. -М., 1994. -С. 287-288.
- Выборных Д. Э. Терапия нозогенных реакций у больных с онкогематологическими заболеваниями. Эффективная фармакотерапия//Онкология, гематология и радиология. -2012. -№ 2. -С. 36-41.
- Выборных Д. Э., Иванов С. В. Клиника и терапия соматогенных психозов у онкологических больных//Психиатрия и психофармакотерапия. -2008. -№ 6. -C. 14-19.
- Kelly C. M., Juurlink D. N, Gomes T. et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and breast cancer mortality in women receiving tamoxifen: a population based cohort study//B. M. J. -2010. -V. 340. -P. 693.
- Самушия М. А., Мустафина Е. А. Нозогении (психогенные реакции) у женщин со злокачественными опухолями органов репродуктивной системы//Психические расстройства в общей медицине. -2007. -№ 3. -С. 11-16.
- Черепкова Е. В. Клиника и динамика психических расстройств у онкобольных с раком различных локализаций: автореф. дис.. к.м.н. -Новосибирск, 2002.
- Скрябин Д. С. Нозогенные реакции при раке поджелудочной железы//Психические расстройства в общей медицине. -2009. -№ 4. -С. 9-16.
- Смулевич А. Б., Дубницкая Э. Б. Астения и коморбидные психические расстройства//Психиатрия и психофармакотерапия. -2009. -№ 4. -С. 4-7.
- Самушия М. А. Феварин (флувоксамин) в терапии тревожно-депрессивных нозогенных реакций у пациентов с онкологическими заболеваниями//Психические расстройства в общей медицине. -2008. -№ 1. -С. 33-37.
- Хондкарян Г. Ш. Нейротоксические расстройства у детей, обусловленные лечением острого лимфобластного лейкоза: автореф дис.. д.м.н. -М., 2003.
- Шац И. К. Психические расстройства у детей, страдающих острым лейкозом: автореф. дис.. к.м.н. -Л., 1989.
- Шафигуллин М. Р. Нозогенные реакции у больных злокачественными новообразованиями желудка (клиника, психосоматические соотношения, терапия): автореф. дис. к.м.н. -М., 2008.
- Горбунова В. А, Иванов С. В., Мещеряков А. А., Шафигуллин М. Р. Астенические расстройства, ассоциированные с химиотерапией злокачественных новообразований (Обзор литературы)//Современная онкология. -2010. -№ 3. -С. 96-101.
- Выборных Д. Э., Савченко В. Г. Психические расстройства у больных с заболеваниями системы крови: аспекты диагностики и лечения//Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. -2013. -Т. 6, № 4. -С. 451-464.
- Самушия М. А. Психические расстройства у больных злокачественными новообразованиями органов женской репродуктивной системы (клиника, эпидемиология, терапия): автореф. дис.. д.м.н. -М., 2015.