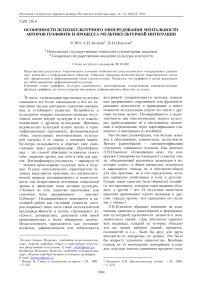Особенности психокультурного опосредования ментальности авторов граффити и процесса мультикультурной интеграции
Бесплатный доступ
Представлены результаты теоретического изучения особенностей психологического опосредования девиантного поведения в информационном обществе. Описаны социально-психологические характеристики смеховой, официальной и информационной типов психокультуры. Оказалось, что граффити в целом представляют собой выражение информационной культуры.
Граффити, культура, идентичность, идентификация, генерализация, функции граффити, мультикультурная интеграция, информационное общество, индивидуализация
Короткий адрес: https://sciup.org/148101016
IDR: 148101016 | УДК: 316.6
Текст научной статьи Особенности психокультурного опосредования ментальности авторов граффити и процесса мультикультурной интеграции
внутренней упорядоченности системы, вызванные прерыванием, нарушением или фрагментированием целостности и приводящие к невозможности актуализации сущего без связи с другими частями целого. Незаверш ё нность и недостаточность два онтологических модуса культуры, принуждающие е ё к постоянному изменению и перемещению через идентификацию единичного и интеграцию со всеобщим.
Чем больше разнообразия, тем больше позывов к объединению, взаимосвязи, целостности. Предел разнообразия – самоидентификация отдельного, единичного человека. Как замечает Э.В.Ильенков: «Совершенно ясно, что конкретное (эмпирически очевидное) существо связи, объединяющей различных индивидов в некоторое «одно», в общее множество, полагается и выражается отнюдь не в абсолютно-общем для них признаке, не в том определении, которое одинаково свойственно и тому и другому. Скорее такое единство (или общность) созда ё тся тем признаком, которым один индивид обладает, а другой – нет. И отсутствие известного признака привязывает одного индивида к другому гораздо крепче, чем одинаковое его наличие у обоих»2.
Э.В.Ильенков обращает внимание на взаимосвязь единства и разнообразия в формировании культурной идентичности личности и межличностных связей: «Два абсолютно одинаковых индивида, каждый из которых обладает тем же самым набором знаний, привычек, склонностей и т.д., были бы друг для друга абсолютно не интересны, не нужны. Это было бы попросту удвоенное одиночество. Всеобщее отнюдь не то многократно повторённое в каждом отдельно взятом единичном предмете сход- ство, которое представляется в виде общего признака и фиксируется знаком. Оно прежде всего закономерная связь двух (или более) особенных индивидов, которая превращает их в моменты одного и того же конкретного, реального, а отнюдь не только номинального единства. И последнее гораздо резоннее представлять как совокупность различных особенных моментов, нежели в виде неопределённого множества безразличных друг к другу единиц. Всеобщее выступает тут как закон или принцип связи таких деталей в составе некоторого целого»3. Следовательно, «разнообразие выступает не столько функцией изоляции групп, сколько отношений, их объединяющих»4.
Разнообразие и самобытность формируют коммуникативное пространство взаимодействия культур и обретают качество императивов, которые, в свою очередь, могут служить эффективными способами поступательного развития, разрешения конфликтов и прочих социальных проблем. К.Леви-Строс постулирует три пути эффективной межкультурной коммуникации: дифференциальные разрывы – новые партн ё ры – новые способы, позволяющие преодолеть гом-генизацию культурных ресурсов, поскольку длительное взаимодействие культур, в то числе, неизбежно приводит к уподоблению культур и стиранию различий между ними, что угрожает выживанию и развитию человечества5. Дифференциация – самая лучшая посылка для интеграции.
Исторический путь культуры можно схематично уподобить движению в сторону очеловечивания человека, достраиванию того, чего человечество оказалось лишённым – это движение в сторону насыщения бытия и родовой самоидентификации человека. Современная эпоха всё активнее провозглашает парадигму мульти-культурной интеграции, мир-культуры и всемирного гражданства (упорядочивание человечества). В постмодернистской культуре времена (эпохи), как бы, складываются (трансплици-руются) и рядом с высокими технологиями, всё чаще соседствуют художественные образцы далёкой первобытности. Представляется, что так называемая постмодернистская псевдопервобытность или реверсивное движение современности к архаике обусловлена тем, что мульти-культурный синтез как транспликативный процесс, включает в орбиту глобальных трансформаций все больше культурных сущностей, в том числе находящихся в исторической дали от современности. Мультикультурные трансформации часто сопровождаются кризисом усложнён- ности и нередко приводят к структурным деформациям межкультурных связей. История мировой культуры, есть, по существу, большой трансформационный процесс становления человечества как особого рода сущего и понять его можно лишь совокупив все составляющие этого сложного и порой разнонаправленного культурного движения.
В культурно-историческом процессе объективно существуют две основные формы идентификации социальных сущностей – генерализация и индивидуализация. Первая – выражает вектор интеграционного развития, направлена в сторону универсализации отношений внутри антропосферы и отвечает за поддержание того или иного уровня культурной системы. Вторая – выражает вектор автономизации (обособления) культурных образований, их дивергенции и сепарации, и сориентирована на удержание конкретного бытия (дискретных границ) сущностей и спецификацию их индивидуальных качеств и возможностей. Индивидуализация есть способ выстраивания внутреннего порядка элементов сущности (внутри отдельной системы), е ё внешних границ замкнутых на себя и отличающие е ё от других сущностей. Индивидуализация позволяет культурной данности быть тождественной самой себе и оптимально выражать присущие ей функции и свойства. Особая миссия генерализации – организация устойчивого взаимодействия и структурного порядка внутри многосоставных систем. По линии генерализации идентификация осуществляется от частного общего, от малого к большому, от единичного к универсальному. В процессе индивидуализации, наоборот, идентификация осуществляется от общего к частному, от большого к малому, от универсального к единичному.
Наряду с генерализацией и индивидуализацией, следует различать в историческом процессе и другие способы идентификации социальных сущностей, и прежде всего, основанные на идентификации человека / культуры, как во времени, так и в пространстве. В этой связи можно выделить две модели идентификации: 1) культурно-пространственную; и 2) культурно-временную. Самоидентификация человека в пространственной артикуляции реализуется посредством сопоставления и отождествления себя с другими сущностями, исходя из места своей структурной вовлечённости в идентификационный процесс – дом, район, город, регион, страна, континент, планета. Каждый локус идентификации соответствует склонности индивидуума к определённому типу самосознания и, так или иначе, выражает определённые социальноисторические доминанты культуры или уровни генерализации / индивидуализации в иденти- фикационном процессе. Культурная идентификация человека во времени реализуется по вертикальной оси и фиксирует различные уровни и ступени его жизненного цикла, стадии жизни человека. Каждый этап идентификации есть момент единого, но многосоставного процесса самоотождествления или очеловечивания человека в культуре, и одновременно специфический способ его адаптации к вызовам социального и природного окружения. Культурно-историчес-кий процесс есть развёртывание и интеграция различных видов целостности (единичности), где одна целостность определяет другую и, в конечном счёте, воплощает всё в одном, одно во всём. Диалектика развития культуры состоит во взаимодополняемости векторов генерализации (универсализации, интеграции) и индивидуализации (партикуляризации, дифференциации). Этот процесс сопровождается драматическими событиями, заполненными противоречиями и конфликтами. Поиск и достижение своей идентичности не знает покоя и согласия. Идентичность не дана сама по себе – она обретается через преодоление, столкновение и борьбу. В культурно-историческом процессе можно выделить две сущностные разновидности конфликтов – экстернальные конфликты (конфликты между системами) и ин-тернальные конфликты (конфликты внутри системы).
Процесс интеграции человечества надо рассматривать как процесс интеграции культур, каждая из которых имеет возможность актуализировать свою идентификационную принадлежность и самобытность. Поскольку у каждой культуры есть своя узнаваемость, то каждая культурная система имеет свою конфигуратив-ную специфику, состоящую из определённых выступов и срезов. Постулированное А.Крё-бером положение о конфигурациях культурного роста позволяет рассматривать каждую культуру как своего рода индивидуальную целостность, которая обладает своим конфигуратив-ным единством (стилем) и вступает во взаимоотношения с другими целостностями в соответствии с присущим ей паттерном (парадигме развития)6. Всякая конфигурация культуры – это композиция неких выступов (то, чем культура владеет, наличествующее бытие) и срезов (то, чем культура не располагает, отсутствующее бытие). Комбинаторика «выступов» и «срезов» задаёт конфигурацию связей одной культуры с другими. Отношение одной конфигурации культуры к другой формирует так называемое конфигуративное взаимодействие. По- скольку культуры взаимодействуют в силу своей конфигуративной сущности не по прямой, а в композиции различных «выступов» и «срезов». Это обусловливает то, что в каждой целостной системе идёт конфликт в пограничных зонах, в области смыкания и столкновения конфигуративных образований. В результате этого столкновения осуществляется реорганизация границ и обеспечивается внутреннее саморазвитие культурной системы. Таким образом, мультикультурная модель интеграции человечества предполагает обязательную транспликацию (структурное сцепление) различных целостностей или культурных конфигураций.
В настоящей работе также анализируются особенности психокультурного опосредования социального поведения, в частности, социального поведения авторов граффити. Психологический анализ культуры, как правило, фиксируется на изучении ценностей и норм. Любая культура содержит определенный круг ценностей, разделяемых индивидами, являющимися ее представителями. В соответствии с этими ценностями выстраивается социальная и психологическая жизнь людей, определяются нормы, регулирующие их поведение. Средством реализации этих норм выступают психологические групповые механизмы7. Психосемиотическая система граффити имеет психологическое содержание, а компонентами ментальности специфической социальной группы авторов граффити являются: особенности психокультурного опосредования, функции, темы, жанры
В современной социальной психологии культура рассматривается преимущественно как система определенного рода образцов, с которыми человек соотносит свои действия, понимаемые в широком смысле не только как поведенческие реакции, но и шаблоны чувствования, мышления, восприятия действительности. Сущность культуры в социально-психологическом плане – в реализации функции социального контроля над своими субъектами, в качестве которых могут выступать отдельные индивиды, малые или большие группы, социальное сообщество в целом. Культура предоставляет каждому индивиду в распоряжение определенное описание мира, с которым человек соотносит свой опыт, оценивает поведение других людей и свое собственное.
Мы считаем, что гетерогенность современной культурной сферы может быть объяснена с точки зрения взаимодействия трех типов культур, каждая из которых связана с определенным типом общества: традиционным, индустриальным и информационным (Д.Белл). Смехо-
7 Тойнби А.Д. Постижение истории. – М.: 1994.
вая культура является культурой традиционного общества. Она представляет собой народную культуру. Официальная культура характерна для индустриального общества. Ранее ее ядро составлял классический литературоцентризм, однако в постсовременном мире она становится менее однородной. Информационная культура, создаваемая СМИ и Интернетом, характерна для постиндустриального информационного общества. Современное российское общество представляет собой конгломерат, переплетение культурных образований. Основные позиции продолжает занимать официальная культура, принимающая новые формы. Однако наряду с ней на рубеже тысячелетий развитие получают смеховая и информационная типы культур.
В нашем исследовании мы опираемся на концепцию карнавальной культуры М.М.Бах-тина. По нашему мнению, граффити являются выражением смеховой культуры. В работах М.М.Бахтина определены признаки смеховой и официальной типов культур. По Бахтину, существуют два основных типа восприятия мира, которые отражаются в одном из полярных типов культур – официальной и народной. Если первая пытается навязать индивидууму «серьезный взгляд на мир», то вторая отражает «смеховой аспект мира»: «Мы видим, таким образом, столкновение и взаимодействие двух миров: мира… официального…и мира, где все смешно и несерьезно, где серьезен только смех . Нелепости и абсурд, вносимые этим миром, оказываются, наоборот, истинным соединительным внутренним началом другого, внешне-го…»8. Вся история человечества представляет собой взаимодействие и взаимопереплетение этих типов культур. Характерные признаки неофициальной культуры М.М.Бахтин раскрывает на анализе произведений Ф.Рабле.
На протяжении средневековья и Ренессанса смеховая культура существовала в форме карнавала. Карнавал выступает второй, праздничной жизнью народа, организованной на начале смеха. В его условиях стираются все социальные различия и барьеры между людьми, происходит отмена запретов официальной культуры, создается особый «идеально-реальный» тип общения, который порождает новые речевые жанры, переосмысление или упразднение некоторых старых речевых форм, часто употребляются ругательства, которые обычно «грамматически и семантически изолированы в контексте речи и воспринимаются как законченные це-лые…»9.
М.М.Бахтин показывает, что карнавальное целое проникнуто «единой образной логикой». «Это целое – смеховая драма одновременной смерти старого и рождения нового мира…»10. Действительно, карнавал в своих проявлениях крайне противоречив и амбивалентен, можно сказать, диалектичен, совмещая противоположности, существующие в неразрывном единстве, в постоянном взаимодействии и взаимоперехо-де, при этом делается акцент на положительную сторону явлений. В традиции народной культуры смех «никогда не подвергался сублимации... он… не носил официального характера… Смех остался вне официальной лжи, облекавшейся в формы патетической серьезности…»11. Смех выходит за пределы серьезных жанров, всех стандартов языка, которые пропитались лицемерием и фальшью. Смех отражает употребление языка в несобственном значении (тропы, ирония, пародия, юмор, шутка и т.п.).
Снижение означает приземление, приобщение к земле как поглощающему и одновременно рождающему началу, а также приобщение к жизни нижней части тела, живота и производительных органов. Следовательно, к таким актам, как совокупление, зачатие, беременность, рождение, пожирание, испражнение. «Снижение роет телесную могилу для нового рождения… отрицает и утверждает одновременно. Сбрасывают не просто вниз, в небытие, в абсолютное уничтожение, – нет, низвергают в производительный низ… где происходит зачатие и новое рождение, откуда все растет с избытком… низ – это рождающая земля и телесное лоно, низ всегда зачинает …»12.
Народная праздничная культура имеет особое отношение ко времени. Веселое время производит «развенчание старого и увенчание нового», оно отличается от мрачного времени приземленностью, обновлением материальнотелесного плана. Развенчание мрачного времени и превращение его в доброе и веселое время – главная задача всех травестирующих предсказаний, пророчеств, гаданий, игр13.
Если в официальной культуре средневековья отрицалась горизонталь исторического времени, торжествовала вертикаль подъема и падения, то в народной культуре, напротив, основным было представление о горизонтальном движении времени, обеспечивающим непрерывный рост и историческое развитие общества. В народной карнавальной культуре акцентируется роль «низа»: «Подлинное богатство и изобилие – не вверху и не в средней сфере, а только в ни-зу…»14. Могучее движение в низ – вглубь земли, вглубь человеческого тела – устремлено в преисподнюю – земную и телесную. Движение в низ, наизнанку, наоборот, шиворот-навыворот проникает все формы народно-праздничного веселья и гротескного реализма. За счет этих процессов происходит новое возрождение вещей, в результате нового применения, развенчивающего их привычные значения, они обновляются: «Предмету или лицу дается несвойственное ему, даже прямо обратное, употребление или назначение, и этим вызывают смех и обновление предмета или лица в новой для него сфере существования…»15.
Карнавальная речь представляет собой «своеобразную игру словами, привычными соседствами слов, взятыми вне обычной логической или иной смысловой связи. Главное значение карнавальной речи состоит в том, что при ее посредстве раскрывается особый двуликий аспект мира, специфическая характеристика людей и вещей, которой нет в официальной системе литературной образной речи.
Помимо смеховой и официальной культур, в информационном обществе возникает новый тип культуры – информационная культура. Основным средством достижения идентичности и обретения смысла жизни личности как в традиционном, так и в индустриальном обществах служило приобщение к традиционным ценностям. Однако в современном мире происходят процессы «технологической экспансии», влекущие за собой переоценку ценностей и идеалов, принятых в традиционном обществе. На смену традиционализму приходит постсовременная эпоха, которая диктует новые векторы развития человечества16.
Возникает новый тип общества – постиндустриальный, в котором господствующее положение занимает информационная культура, по своим характеристикам принципиально отли- чающаяся от смеховой и официальной типов культур. Для нее характерен английский язык, который служит прообразом единого мирового языка, а также различные нарративы, которые в информационной среде заменяют традиционно выделяемые субъект-объектные отношения. Информационная культура предполагает существование иной, не «объективной», а виртуальной реальности. В отличие от прошлых культур, построенных на прочной материальной или духовной почве, информационная культура основывается на всеобщей текстуализации и нар-ративизации как мира, так и отдельного персонажа. Сейчас информационная культура стремится занять доминирующие позиции в мировом культурном пространстве.
Информационная культура является преимущественно постписьменной и визуальной. Информационная культура отличается от других типов культур онтологически: она представлена в виде определенного текста – информации, которая постоянно превращается в знание. В ней происходит взаимопроникновение и слияние «высокой» и «низкой» культуры, размываются традиционные ценности. Информационная культура предъявляет новые требования к психике индивидуумов.
Г.М.Андреева отмечает, что в современной ситуации нестабильности в массовом сознании происходит глобальная ломка устоявшихся социальных стереотипов, изменение системы ценностей и кризис идентичности: «механизмом формирования социальной идентичности является категоризация – процесс «отнесения» индивидом себя к определенной социальной группе. Социальные категории… выступают в процессе познания как порождения стабильного мира: они фиксируют устоявшееся, прочное. Когда сам реальный мир становится нестабильным, социальные категории как бы разрушаются, утрачивают свои границы…»17.
По мнению Р.Инглхарта, переход к эпохе постмодерна сопровождается глубокими ценностными изменениями: происходит сдвиг в преобладающих нормах и мотивациях, лежащих в основе поведения людей. Уменьшается роль власти и авторитетов, понижается значение политических, религиозных, социальных и сексуальных норм. Происходит сдвиг от материальных к постматериальным ценностям18.
В.А.Шкуратов пишет, что человеку в постиндустриальную эпоху предстоит симбиоз с электронными устройствами: «Общением с ними преимущественно охвачены процессы психики, до сих пор слабо «технизированные», – интеллект в фазе решения и воображение…»19.
Л.Бовоне говорит о том, что современное общество – это общество имиджей или воображаемого. В постсовременном мире возникает новый тип коммуникации – коммуникация посредством образов. В сердцевине процессов глобальной коммуникации могут складываться определенные замкнутые культурные пространства – культурные ниши. Главные черты постсовременной коммуникации – образность и рефлексивность. Общение посредством имиджей начинает господствовать над письменной коммуникацией и логическими суждениями. В ходе интервьюирования различных групп молодежи, связанных со взрослой культурой или находящихся в оппозиции к ней, выявилась следующая тенденция: «с одной стороны, есть люди, «похожие на меня»; для общения с ними слова почти не нужны… согласие с ними очевидно, осязаемо, единство стиля жизни выражает общие чувства и отношение к миру. Однако есть и другие, «которые принимают меня за чужого», и которых я называю чужими; при этом взаимное недоверие будет основываться на проявлениях бросающихся в глаза различий»20.
Таким образом, информационная культура предъявляет особые требования к психике человека: владения компьютерными технологиями и навыков работы с разного рода информацией. Она дает огромные возможности конструирования идентичности, что одновременно может порождать ряд психологических проблем. Сложность конструирования идентичности связана с размыванием традиционных ценностей и границ социальных групп, что затрудняет процесс социальной категоризации. Информационное пространство также может оказывать негативное влияние, связанное с возможными психическими нарушениями из-за информационной перегрузки, с возрастанием стереотипизации в межличностном и межгрупповом общении, а также с увеличением влияния СМИ и Интернета на индивидуальное, групповое и общественное сознание.
Таким образом, смеховая, официальная и информационная культуры, как показывает анализ, различаются: а) исторически; б) структурно (по своим знаковым носителям и их организации), но сохраняют преемственность по своим социокультурным функциям. Исторически народная культура – самая древняя, пре- имущественно телесная и мифологическая. Соприкасаясь с письменной культурой, она становится альтернативной, протестной, делая и свое содержание эпатирующим, протестным по функции. Письменность же становится общей официальной и культурно приемлемой высокой формой выражения – значительная часть идентификационных, прагматических задач переходит к ней. Этот культурно-исторический статус сохраняется за ней в известной степени до сих пор. В то же время четкое противопоставление народной (карнавально-площадной, устной) и официальной (письменной) культур весьма относительно и принадлежит доиндустриальной и отчасти индустриальной культурам. В постиндустриальную эпоху новый культурный носитель – массовая коммуникация становится ин-ституциолизированным средством организации общества. Современная постиндустриальная культура разделяется на два слоя: собственно информационная (управляющая подсистема общества, информационное обеспечение власти, экономики, науки) и видеонарративный ряд массовой культуры, который серьезную культуру пародирует, критикует, отчасти отрицает с позиции человека массового общества (особенно молодежи), чье сознание не вполне ассимилировано шаблонами. Отчасти повторяется отношение между народно-площадной и официально-письменной культурами. Андеграунд информационной культуры представляет ее официальный слой в шаржированном, нарочито разорванном и фрагментарном виде информационной антисистемы. Причем, протестный андеграунд информационной культуры может усваивать и темы старого карнавального андеграунда (сексуальные, антисоциальные) и даже письменной культуры, которая оттесняется в постиндустриальном обществе на вторые роли. Можно предположить, что информационный низ – это слияние элементов старой карнаваль-ности с новыми техниками информационного опосредования и идентификации. Отношение между дописьменными, письменными и постписьменными субстратами в координатах «официальный верх – неофициальный низ» сложно и неоднозначно. Старая оппозиция телесной карнавальности и письменной официальности продолжает сохраняться, поскольку письменная культура продолжает играть важную роль в регуляции общества. Значительная часть вне-нормативного поведения уже кодируется как информационная антисистема. Информационный верх аккумулирует в себе элементы из старой официальной письменной культуры. Несмотря на реальную сложность отношений указанных культурно-исторических страт, в данной работе они даются как отдельные психокуль- турные типы, так как свойственные каждому из них темы, жанры, стилистика сохраняются в виде достаточно устойчивых культурносемиотических традиций и систем.
Экспериментальную выборку составили 5789 граффити г. Самары. Оказалось, что среди них смеховую культуру составляют 10,5 % граффити, официальную – 1 %, а информационную – 88,5 %. Таким образом, современные постиндустриальные граффити являются выражением информационной культуры, которой присущ виртуализм, всеобщий (английский) язык, нарративизация сознания. Психокультурное опосредование является компонентом ментальности специфической социальной группы авторов граффити.
В настоящее время основным средством и доминантным типом граффити становится информационная подпись, которая является центральным семантическим сегментом, придающим смысл образно-знаковому ряду психосемиотической системы граффити и, одновременно, представляющим собой зафиксированное в дискурсивном форме стремление индивидуума к интеграции с новой виртуальной информационной действительностью, характерной для постсовременной эпохи. Психосемиотическая система граффити имеет психологическое содержание, а компонентами ментальности специфической социальной группы авторов граффити являются: особенности психокультурного опосредования, функции, темы, жанры.
FEATURES OF PSYCHOCULTURAL BY MEANS OF GRAFFITI AUTHORS MENTALITIES AND PROCESS OF MULTICULTURAL INTEGRATION
Список литературы Особенности психокультурного опосредования ментальности авторов граффити и процесса мультикультурной интеграции
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М.: 1991. -С.257.
- Ильенков Э.В. Диалектическая логика. -М.: 1984. -С.273. Там же. -С.273.
- Леви-Строс К. Путь масок. -М.: 2000. -С.328. Там же. -С.353.
- Kroeber A. Configurations of Cultural Growth. -Berkley; Los Angeles: University of California Press, 1944. -882 p.
- Тойнби А.Д. Постижение истории. -М.: 1994.
- Бахтин М.М. Рабле и Гоголь//Вопросы литературы и эстетики. -М.: 1975. -С.484 -495.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. -2-е изд. -М.: 1990. -С.23. Там же. -С.78. Там же. -С.263. Там же. -С.409. Там же. -С.415 -417
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. -М.: 1965.
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе//Бахтин М.М.Вопросы литературы и эстетики. -М.: 1975. -С.384 -385.
- Шкуратов В.А. От Манхетенна до «Норд-Оста». Психология масс-медиа, политика после 11 сентября 2001 года. -Самара: 2002
- Белкин А.И. Постмодернистская психология. -Самара: 2005.
- Андреева Г.М. Социальная психология. -М: 1999. -С.363 -364.
- Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества//Полис. -1997. -№4. -С.23.
- Шкуратов В.А. Историческая психология. -Ростов на/Д.: 1994. -С.186.
- Бовоне Л. Глобальная коммуникация и культурные ниши//Средства массовой коммуникации и социальные проблемы. -Казань: 2000. -С.137.