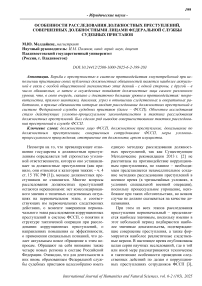Особенности расследования должностных преступлений, совершенных должностными лицами Федеральной службы судебных приставов
Автор: Мелдайкис М.Ю.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 6-2 (105), 2025 года.
Бесплатный доступ
Борьба с преступностью в системе противодействия злоупотреблений при исполнении приставами своих публичных должностных обязанностей является наиболее актуальной в связи с особой общественной значимостью этих деяний - с одной стороны, с другой - в число обвиняемых, а затем и осужденных попадают должностные лица самого различного уровня, что, в свою очередь, связано с достаточно большим уровнем противодействия: покровительства, прямого шантажа, давления, угроз в отношении следственных и оперативных работников, в прямые обязанности которых входит расследование должностных преступлений в системе Федеральной службы судебных приставов (далее - ФССП). Объектом исследования стало действующее уголовно-процессуальное законодательство и тактика расследования должностных преступлений. Был сделан ряд выводов совершенствовании тактики расследования преступлений в службе ФССП.
Должностное лицо фссп, должностное преступление, доказывание по должностным преступлениям, совершенным сотрудниками фссп, меры уголовно-процессуального принуждения, отстранение от должности
Короткий адрес: https://sciup.org/170210648
IDR: 170210648 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-2-199-203
Текст научной статьи Особенности расследования должностных преступлений, совершенных должностными лицами Федеральной службы судебных приставов
Несмотря на то, что превалирующее отношение государства к должностным преступлениям определяется той строгостью уголовной ответственности, которую оно устанавливает за должностные преступления (как правило, они относятся к категории тяжких – ч. 4 ст. 15 УК РФ [1]), меньше должностных преступников не становится. Многие вопросы расследования должностных преступлений остаются нерешенными: нет консолидированного мнения о типичных следственных ситуациях на первоначальном этапе, о соответствующих им первоначальных следственных действиях, о моменте завершения первоначального этапа расследования коррупционных преступлений в системе ФССП, о понятии и структуре тактической операции при расследовании коррупционных преступлений, о направлениях повышения ее эффективности, о применении специальных познаний, что делает актуальным новое обращение к этим вопросам. Обращают на себя внимание также четыре новых региона в составе Российской Федерации. Очевидно, что для деятельности в них вновь образованным Федеральной службы судебных приставов целесообразно иметь единую методику расследования должностных преступлений, так как Существующие Методические рекомендации 2013 г. [2] не рассчитаны на противодействие коррупционным преступлениям, но главное – необходимым представляется незамедлительное создание методики расследования преступлений в военное время (в чрезвычайных условиях, в условиях специальной военной операции), поскольку процессуальное упрощение, неизбежное при таких обстоятельствах, во всяком случае не должно сказываться на качестве доказывания.
При этом из всех этапов расследования преступления первоначальный – представляется наиболее значимым, поскольку именно в этот небольшой период подбираются наиболее значимые доказательства, подтверждающие совершение преступления, а также формируются наиболее реалистичные следственные версии. В настоящее время опубликованы целая серия научных исследований, где в той или иной мере рассматриваются технические и тактические особенности проведения следственных действий по делам о коррупционных преступлениях сотрудников ФССП [3], однако до сих пор отсутствует такой их анализ, который позволил бы выявить целостную картину технических и тактических особенностей данной категории преступлений. В то же время исследования, связанные с расследованием преступлений данной категории должностных лиц в военное время, практически отсутствуют. С учетом ведущейся в настоящее время специальной военной операции, данная тема нуждается в одним или нескольких самостоятельных исследованиях, в частности, классифицированных по стадиям расследования) [4].
В практике ФССП противодействие следствию преодолевается путем проведения дисциплинарной проверки и расторжения контракта и прекращением служебных отношений с должностным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Как правило, основанием для этого является пункт 9 части 3 ст. 80 ФЗ от 01.10.2019 г. № 328-ФЗ [5]. В случаях же, когда контракт с должностным лицом по каким-либо причинам не расторгнут и он продолжает службу в органах службы приставов, следователю целесообразно проявить собственную инициативу и потребовать временного отстранения лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от должности в порядке ст. 114 УПК РФ [6]. Как правило, при постановлении обвинительного приговора эта предупредительная функция данного института реализуется в применении такого (и основного, и дополнительного) вида наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ [1]).
Временное отстранение от должности особенно эффективно в ситуации расследования коррупционного преступления. Процедура временного отстранения в полной урегулирована в настоящее время Приказом Минюста России от 30.03.2020 №69 [7], однако суды с крайней степенью осторожности относятся к временному отстранению. Так, по одному из дел было установлено, что Б. была отстранена от должности судебного пристава в связи с проведением в отношении нее уголовного расследования, ей было назначено государственное пособие (11310 руб. в месяц), при этом «срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, производились осмотры мест происшествия, обыски, допросы свидетелей, проведены оперативно-розыскные мероприятия» [8] и т.д., но в конечном счете Б. были истребованы (и взысканы судами) от государства не только размер утраченного заработка, но и компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Таким образом, временное отстранение от должности – хотя и простая, но достаточно болезненная мера: государство сразу же лишается сотрудника, но и вынуждено выплачивать компенсационные платежи и, при условии недоказанности факта должностного преступления (или отсутствия самого события преступления) – также и компенсацию морального вреда.
Еще одной претензией к данному институту является ограниченный срок назначения судебного заседания (48 часов – ч. 2 ст. 114 УПК РФ). Однако соблюсти такой срок проблематично в связи с тем, что в судебном заседании при рассмотрении ходатайства вправе участвовать со стороны защиты подозреваемый, обвиняемый, его защитник (т.е. эти лица должны быть заблаговременно извещены о месте и времени такого судебного заседания с представлением им возможности судебного участия в нем). Поэтому в данном случае целесообразно внести в уголовно-процессуальное законодательство изменение, согласно которому будет допускаться извещение подозреваемого (обвиняемого), его защитника посредством телефонограммы или смс-уведом-ления, а также посредством отправления сообщения на электронную почту – в случае, если в процессе расследования следователь (дознаватель) получит от этих лиц согласие на отправку таких сообщений. Что же касается судебной повестки, то она, подлежа доставлению стороне защиты в течение 48-ми часов, не сможет выполнить своей предупредительной функции – в силу сроков доставки почтовых отправлений (по почтовым правилам, не более недели в пределах одного субъекта РФ). Оптимальным представляется закрепление в законодательстве обязанности стороны защиты представлять органам предварительного расследования свою электронную почту.
Возможна также неявка стороны защиты по уважительным причинам, что вряд ли можно опровергнуть в связи с ограниченными сроками проведения судебного заседания. По- этому представляется целесообразным право следователя отозвать свое представление о применении данной меры с учетом возможности будущего заявления об этой мере.
В число особенностей первоначальных следственных действий в отношении сотрудника ФССП должна быть включена также проверка деятельности (причастности) лиц, рекомендовавших его на должность. Данная проверка позволяет за получившим известность однократным инцидентом - выявить систему коррупции. Часть 13 статьи 30 ФЗ от 01.10.2019 г. № 328-ФЗ и Приказ ФССП России от 17.01.2020 N 101 устанавливают такой институт, как личное поручительство – в случаях, когда лицо замещает должность по назначению, в связи с чем анализ такого поручительства, составляющего один из документов личного дела сотрудника, позволит быстрее определить интересантов его назначения на должность, круг общения, сформировать версии о способах совершения расследуемого преступления именно в рамках ФССП. Анализ цепочки профессиональных связей таких приставов может привести к выводам о том, кто содействует и протекциони-рует по службе взяткодателю.
Еще один способ выявления группового характера преступной деятельности – тактическая операция с «мечеными купюрами». Однако существуют и обратные случаи операций «меченых купюр», крайне сомнительные с точки зрения здравого смысла и общей картины доказательств, каким стал случай осуждения начальницы районного органа ФССП за 4 5-тысячных купюры, при этом денежные знаки были изъяты с того места, на котором она не могла видеть их передачу и ни на одном из которых не нашлось отпечатков ее пальцев [9]. Свидетель по данному делу имел неоднократные дисциплинарные взыскания от осужденной и при ее дальнейшем пребывании на службе ему грозило увольнение, что также не стал учитывать суд. В данном случае разбор ситуации, хотя и проведенный журналистами, ясно показывает несоответствие результатов операции другим фактическим доказательствам по делу.
Успех и скорость расследования должностных преступлений вряд ли возможны без контакта следователя с органами, ведущими оперативно-розыскную деятельность. Осо- бенно это представляется значимым для четвертого типа следственных ситуаций, в которых уголовное дело возбуждается на основании данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий (п. «3)» ч. 1 ст. 140, ст. 143 УПК РФ), в том числе – в результате аналитической обработки обобщенных сведений [10, с. 185]. Целесообразным представляется назначение за обвиняемым наблюдения (как отмечают некоторые специалисты, «именно на наблюдении во многом строится современная ОРД» [11, с. 4]), а также контроля и записи переговоров. В частности, по анкетированию, проведенному Д.В. Вагуриным, установлено, что контроль и запись переговоров используется следователями уже в 90% случаев [12, с. 24].
Особенно важным на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, представляется своевременное принятие мер по наложению ареста на имущество. Как отмечалось выше, современные криминалистические средства пока не в полной мере могут выявить наличие у лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование, всех возможных счетов. Одним из средств, позволяющих наложить арест на такие активы, является создание в следственных органах криптокошельков – поскольку, с одной стороны, в Российской Федерации отсутствуют криптовалютные торговые площадки (на данный момент не зарегистрировано ни одной), а существующие санкции не позволяют реализовать такие (сложные уже сами по себе) механизмы изъятия российских средств с зарегистрированных за рубежом криптовалютных бирж, как соглашения о правовой помощи. Как полагают представители Генеральной прокуратуры, этот орган «всегда последовательно выступает за развитие и оптимизацию механизма конфискации как иной меры процессуального характера. Мы здесь (в ситуации с криптовалютами) можем разрешить следственным органам заводить собственные криптовалютные счета и кошельки» [13]. Пока такого постановления Правительства РФ не принято, однако необходимо учитывать, что, по данным того же Правительства РФ, в 2022 г. порядка 10 млн российских граждан (преимущественно молодежь) открыли в криптовалютных (основан- ных на технологии «блокчейн») системах счета (криптокошельки), размер которых составляет десять трлн руб. [14].
Таким образом, на сегодня представляется очевидным, что криптокошельки и криптовалюта стали лучшим способом сокрытия дохо- дов и международных денежных транзакций, в связи с чем версия о криптовалютных расчетах за должностные преступления в правоохранительных органах должна проверяться не в качестве одной из многих, а в качестве первоочередной.