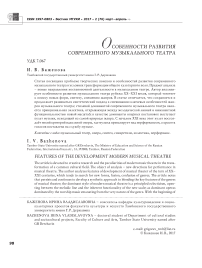Особенности развития современного музыкального театра
Автор: Баженова И.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме творческих поисков и особенностей развития современного музыкального театра в условиях трансформации общего культурного поля. Предмет анализа - новые направления постановочной деятельности в музыкальном театре. Автор анализирует особенности развития музыкального театра рубежа ХХ-ХХI веков, который тяготеет к поиску новых форм, синтезу, смешению жанров. В статье отмечается, что сохраняется и продолжает развиваться синтетический подход к смешиванию ключевых особенностей жанров музыкального театра; стилевой доминантой современного музыкального театра является принципиальная эклектика, открывающая между мелодической линией и имманентной функциональностью новый масштаб; в качестве доминанты оперных постановок выступает культ музыки, исходящий из самой природы жанра. С началом ХХI века этот культ воссоздаёт некий критерий идеальной оперы, где музыка превалирует над перформансом, а красота голосов поставлена на службу музыке.
Музыкальный театр, опера, синтез, синкретизм, эклектика, перформанс
Короткий адрес: https://sciup.org/144160695
IDR: 144160695 | УДК: 7.067
Текст научной статьи Особенности развития современного музыкального театра
Традиция рассматривать искусство в контексте цельной системы духовной жизни и духовной культуры существует издавна. В этом смысле музыкальный театр рубежа ХХ–ХХI веков, всё более и более тяготеющий к поиску новых форм, к синтезу, смешению жанров, представляет собой один из наиболее интересных предметов для исследования. Радикальное расширение современных языков музыки и театра, их выразительных средств и форм невольно приводит к мысли о беспредельном расширении границ возможностей музыкального театра. С началом нового столетия «сформировалось целое поколение профессионалов, для которых исполнение новой музыки – не странный эксперимент на грани фола, а естественная форма музицирования [7]». Этот процесс на сегодняшний день становится всё активнее и динамичнее, вопреки утверждению многих критиков, констатирующих «смерть оперы» как таковой (под оперой мы в данном случае подразумеваем также оперетту и комическую оперу).
Здесь следует отметить, что возрастает интерес не только и не столько к самому процессу перехода от синтеза к синкретизму, сколько к поиску единой природы искусства (синтеза) в полихудоже-ственном смешении (синкретизме) в рамках современной театральной эстетики. Исходя из этого, мы попытаемся наметить ключевые доминанты художественного поиска современных постановок, тяготе- ющих к взаимодействию различных видов искусства в едином художественном пространстве. Основные признаки данного процесса можно свести к следующему.
Во-первых, сохраняется и продолжает развиваться вполне удачно закрепивший себя в истории художественной культуры синтетический подход к смешиванию ключевых особенностей жанров музыкального театра. В XVIII веке В.-А. Моцарт называл свой одноактный зингшпиль «Бастьен и Бастьенна» «опереттой», однако это было определение самого Моцарта. Музыкальные критики единодушно определили это жанр как комическую оперу. Да и сейчас, если взять в библиотеке любой соответствующий клавир, на нём будет написано – комическая опера. Ж. Оффенбах называл «опера-ми-буффа» свои большие оперетты «Прекрасная Елена», «Перикола». В истории музыкального театра можно без труда найти и ряд других примеров подобного смешения.
В XXI веке особенности этого процесса проявляются ещё ярче, выражаясь в циклическом движении, основу которого составляют две уже названные ведущие тенденции – синтез и синкретизм.
Во внешнем движении от синтеза к синкретизму отражено стремление сохранить классику музыкального театра, а во внутреннем – неизбежное влияние глобализации, современных технологий, расширения информационного простран- ства, техногенных процессов – в общем, всего того, что охватывает сейчас все сферы культуры, включая и театральное творчество. Следовательно, необходимо «подобрать ключи», одинаково хорошо «открывающие двери» музыкального театра во всех направлениях. Но подбор таких ключей к современному музыкальному спектаклю с очевидностью требует его постоянного соотнесения с информационной базой зрителя (слушателя), тем интонационным культурным словарём, которым он обладает и который является в той или иной мере проекцией интонационного словаря эпохи [10].
Сторонники классического подхода к оперному жанру утверждают, что известные постановки категорически нельзя изменять, как нельзя дорисовывать «Джоконду» Леонардо да Винчи. Но неизбежное стремление современной театральной эстетики к синкретизму всё чаще и реши- тельнее вводит в пространство классики экспериментальный поиск, следуя «духу времени» многие режиссёры акцентируют своё видение через изменение места действия, отношения к главным героям или обществу. В частности, опера Б. Бриттена «Сон в летнюю ночь» в постановке в 2012 году Кристофера Олдена в театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко вызвала множество ожесточённых споров. Это касалось не музыки, которая была безупречна. Уильям Лейси, дирижёр, добился «бриттеновской хрупкости и чёткости от оркестра и солистов», проблема была в трактовке самого действия оперы, которое из волшебного леса было перенесено на серый школьный двор, где персонажи-школьники пили, курили, подвергались насилию. Это один из показательных моментов современного синкретизма, который могут увидеть наши современники.
Приведём ещё один пример: Ю. П. Любимов, легендарный драматический режиссёр, поставил в Большом театре оперу «Князь Игорь» А. П. Бородина. Он сократил многое в партитуре оперы, добиваясь ясности и лаконичности действия, руководствуясь тем, что в XXI веке нельзя не учитывать временные рамки спектакля и затягивать действие. Любимов даже предполагал сократить сцену половецких плясок, столь любимую и знакомую с детства многим зрителям и радиослушателям, но увидев танцевальную партию солистки, всё же решил оставить. Бесспорно, что такие трактовки спектаклей могут обладать многими, в том числе эстетическими, достоинствами; они бывают увлекательны, содержательны, занятны, – но их достоинства связаны со спецификой театра как такового, а не только теа- тра музыкального.
Во-вторых, стилевой доминантой современного музыкального театра является принципиальная эклектика, открывающая «между мелодической линией и имманентной функциональностью новый масштаб [9, с. 97]». Это явление мы впервые встречаем у Рихарда Штрауса – представителя «венской школы» в музыке, создавшего несколько опер вместе с австрийским поэтом-символистом Гуго фон Гофмансталем. Так, например, «Ариадна на Наксосе» совместила в себе стилизацию оперы XVIII века, элементы «комедии дель арте» и современного (начала ХХ века) звуковедения в оркестре.
Нестрогость, эклектизм, соединение несоединимого отличает и творчество композитора второй половины ХХ века К. Штокхаузена. Однако, как отмечает
Н. В. Санникова, это эклектика особого рода: «она не утрачивает художественной привлекательности, поскольку не соскальзывает на уровень плоских “микстов”, претенциозных и лживых пророчеств “о судьбах и путях”, к тривиальной демонстрации “технологической эрудиции”, когда автор, не в силах преодолеть влияния своих более ярких предшественников, бесконечно вращается в их стилевых полях [8]». Другими словами, эклектизм может свидетельствовать о художественном стержне, который придаёт опере цельность и неповторимость.
В связи с этим вспоминается опера К. Штокхаузена «Воскресенье», завершающая его цикл «Свет. Семь дней недели», в которой удивительным образом сочетаются динамичность, пространственность, ассоциативность и максимализм.
Необыкновенно сложная постановка этой оперы в 2011 году в Кельне отличалась радикальностью как в музыкальном, так и в сценическом решении. Действие как таковое отсутствовало, поскольку происходило одновременно в разных концах зала. Оркестром управляли сразу два дирижёра – Катинка Пасвеер и Петер Рундель. Хор и артисты выгодно расположились между рядами, солисты – на высоких трибунах, на стенах демонстрировались проекции увеличенных фотографий планет и экраны радаров, которые что-то ищут, а специально обученный человек ходил по кругу и тянул за верёвочку огромные лопасти, нависающие над зрительским залом.
Контакт со зрителем, согласно концепции постановки, приобретал в данном случае гиперпространственную форму перформативного действа: люди в скафандрах предлагали публике воду, актёры в одеянии ангелов беспрерывно заставляли зрителей перемещаться с одного места на другое… Масштабность зрелища определялась общим направлением движения, набором сложных ассоциаций, парадом культурных символов, бесконечным, но неутомительным в силу своего разнообразия [6]. Здесь – и семь хоров, которые поют религиозные тексты на многих языках мира (вторая сцена), и эклектика в звучании электронной музыки и живого оркестра (третья сцена), и ассоциативная игра, строящаяся на сочетании партий семи солистов с семи ароматами, попеременно распыляемыми в зале (четвёртая сцена). Но особую сложность составляла пятая – финальная – сцена оперы – «Свадьбы», исполнение которой происходило одномоментно в двух залах с синхронными включениями из одного зала в другой. Музыка, решённая в таком пространственном ключе, вне всяких сомнений, создавала реальное ощущение присутствия музыкантов среди публики.
Невозможно в данной связи не отметить и оперу Дж. Менотти «Консул», написанную ещё в 1950 году и получившую в наше время новое звучание. Тема сложностей получения визы, выраженная через подчёркнутое одиночество и беззащитность героини перед лицом жёсткого бюрократического аппарата, сопряжена с темой самоубийства. Напряжённость оперного действия, эмоциональная насыщенность мелодий, простота и доступность музыкального языка обнаруживают в этой опере «черты близости к стилю веристов, в особенности Пуччини [2]». При этом эклектичность оперы, заключающаяся в пестроте её стиля, немного сглаживается экономным использованием выразительных средств: даже оркестр здесь заменя- ется ансамблем, состоящим из нескольких инструментов. Подчеркнём, что лондонской постановке этой оперы в 2011 году режиссёр Стив Тиллер придал черты определённого синкретизма: между классиче- скими ариями спектакля, основанного на тексте и музыке Дж. Менотти, звучала украинская народная песня. Однако это совсем не мешало установлению связи со зрителем, а напротив, «осовременивало» творческую модель композитора.
В-третьих, ещё одной особенностью современных музыкальных постановок является «ложная оперность», когда происходит обеднение оперы вследствие изъятия элементов прозы из произведений. Ведь никому не придёт в голову исключить из «Князя Игоря» А. П. Бородина балетный фрагмент второго действия «Половецкие пляски», однако многие режиссёры считают уместным изъять из оперы Ж. Бизе «Кармен» прозаические диалоги. В связи с этим необходимо отметить, что сочетание ариозно-речитативной и бытовой музыки в оперной драматургии позволяет нам предположить существование некой программы, определяющей характер единой художественной природы видов искусства.
Вспомним, например, что оперный синтез Ж. Оффенбаха составляют развёрнутые речитативы, мелодекламации и чисто прозаические эпизоды, посредством которых происходит установление аудиовизуального контакта актёров-вокалистов, хорошо владеющих техникой сценической речи, со зрительным залом. Связующим звеном здесь выступает оппозиция, некое как бы противостояние театра и драматурга: «они по разные стороны – беззвучная, двухмерная литературная версия и её объёмное, движуще- еся, звучащее воплощение на сцене [3]». Благодаря такому «вторжению другого мира за миром видимых фигур [9, с. 91]» большинство критиков оперного искусства практически не ощущают грани, где кончается музыка и начинается проза. Так, эпизод, где Герман (исполнитель партии – В. Пищаев) из «Пиковой дамы» П. И. Чайковского читает на общей музыкальной паузе письмо Лизы в прозе, совсем не воспринимается как инородный элемент в опере. Напротив, таким способом только утверждается синтетическая природа опер Чайковского, значительно усиливающая интригу сюжета.
В-четвёртых, в качестве ещё одной доминанты оперных постановок можно назвать культ музыки, исходящий из самой природы жанра. С началом ХХI века этот культ воссоздаёт некий критерий идеальной оперы, где музыка превалирует над перформансом, а красота голосов поставлена на службу музыке. В качестве наглядного примера можно привести оперу Р. Вагнера «Валькирия» (вторая часть тетралогии «Кольцо Нибелунга») в исполнении Берлинского оркестра под управлением Даниэля Баренбойма, приглашённого из миланского театра «Ла Скала», в декабре 2004 года.
Несмотря на преобладание в постановочном решении героического военизированного стиля, в Берлинской опере совсем не создавалось впечатления милитаристской тотальной какофонии. Конечно, ощущались энергия и динамика, однако музыка была настолько «многослойной», что настроение передавалось и воспринималось всеми органами чувств: слухом, зрением, вкусом, обонянием и осязанием. Всё напоминало о том, что музыка и полифонический ансамбль в полной мере
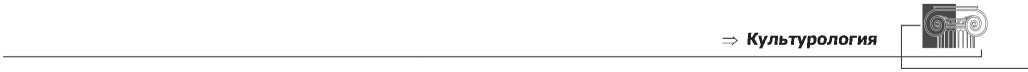
составляют цементирующую основу немецкой оперы. Здесь голоса певцов – это солирующая часть оркестра, в котором солисты могут быть и артистами, и музыкантами, воплощая в своих полисемантических сложных образах синтетическую природу музыкального театра.
С культом музыки неразрывно связана такая особенность синтетической природы современной оперы, как лаконичность, «ведь поющееся слово значительно дольше звучит, чем произнесённое [5]». В этом плане крайне любопытным представляется лондонский спектакль «Оперы из шести слов» под руководством Джеймса Янга (2010). Короткие либретто из шести слов составили основу 17 мини-опер, звучащих по несколько минут каждая.
Возьмём для примера оперу под названием «Первое свидание». Либретто звучит следующим образом: «Первое свидание. Поезд опоздал. Он не дождался». Зритель видит, как парень и девушка по телефону договариваются о свидании, беспрерывно повторяя волшебные слова «First Date», то есть «первое свидание». Далее они готовятся, наряжаются, она спешит на вокзал, однако поезд почему-то опаздывает. Он долгое время стоит, дожидается и уходит, так и не дождавшись. Вскоре она, запыхавшись, прибегает и видит, что его нет, в отчаянии бредёт по перрону. Внезапно он возвращается, произнося с высокой степенью драматизма: «Подожди!». Главное событие оперы – первое свидание, разворачивающееся на простом бытовом фоне, психологически тонко передано с помощью музыки: короткие, словно недоговорённые мелодические фразы в оркестре усиливают волнение, порывистость и чистоту чувств героев. Зритель убеждается, что с помощью одних лишь музыкальных средств можно достоверно и лаконично описать черты характера и подчеркнуть смысловую значимость персонажа, а также эмоционально подготовить зрителя к восприятию событий. Действительно, природа музыки универсальна в том смысле, что «в ней заложены объективные основы, позволяющие ей вступать в синтетические связи со словом, движением, мимикой, жестом, дополнять живопись и архитектуру [1]».
Следует, тем не менее, признать, что культ музыки, охвативший экспериментальные поиски современных композиторов в отношении интерпретации широко известных сюжетов, часто выходит за рамки возможного и допустимого. Вспомним хотя бы такие спектакли, как «Трубадур» Дж. Верди, «Тоска» и «Мадам Баттерфляй» Пуччини, в которых, по существу, вытеснялся фактор исторического времени и тех событий, в которых до мелочей переданы энергетика и настроение духа эпохи.
Всевозможные эксперименты в области оперного жанра, с одной стороны, очень интересны, но с другой – возникает вопрос: нет ли в стремлении избавиться от консерватизма опасности уничтожить основы оперного жанра? Вспоминается скандальная премьера «Русалки» по мотивам всем известной сказки Ганса Христиана Андерсена. В новой постановке русалка предстаёт в образе женщины лёгкого поведения, а место, где происходит действие, – весьма неожиданно: это не сказочный дворец, а бордель. Колдунью, дающую Русалочке душу, в новом варианте заменила содержательница публичного дома. Последней каплей в чаше тер- пения зрителей стало недоумение по по- вания художественной природы всех ис- воду практически полного отсутствия костюмов у актёров. Режиссёры-постановщики, авторы современной трактовки «Русалки» Джосси Вилер и Серджио Мо-рабито объясняют это тем, что сказочные русалки в оригинальном варианте «не могли похвастаться обилием одежды и вечерними туалетами [4]». Однако большая часть зрителей согласилась с негативной оценкой этой премьеры, сводящей её к понятию «вандализм».
В-пятых, хотелось бы подчеркнуть, что современный музыкальный театр отличается природосообразным и поли-художественным подходом: единые осно- кусств соответствуют полихудожествен-ной многоязычной природе восприятия самого зрителя.
В связи с этим на первый план выходит стилистика, включающая такие особенности оперных постановок, как карнавальная гротескность, полихудожественный символизм, виртуализация художественного пространства, музыкальная импровизация, метафоризация. Возможно, что в современном сложном и жёстком мире именно такое разнообразие видений и трактовок способно сохранить полноту мира музыки и в конечном счёте мира культуры как такового.
Список литературы Особенности развития современного музыкального театра
- Андреева В. А. Музыка в синтетических видах искусства // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2003. № 2. С. 19-23.
- Гозенпуд А. Опера Джан Карло Менотти «Консул» [Электронный ресурс] // Классическая музыка: [веб-сайт]. Электрон. дан. 12.01.2011. URL: www.classic-music.ru/consul.html
- Кузнецов В. Человек недели. Монастырский устав // Россия. 2005. № 43. С. 11.
- Мануков С. Лондонская Королевская опера показала «Русалочку» лёгкого поведения [Электронный ресурс] // Театральные Новые Известия ТЕАТРАЛ: [веб-сайт]. Электрон. дан. 1 марта 2012 года. URL: www.teatral-online.ru/news/6002
- Михеева Л. В. Либретто [Электронный ресурс] // Классическая музыка: [веб-сайт]. Электрон. дан. 12.01.2011. URL: www.classic-music.ru/libretto.html
- Мокроусов А. «Воскресенье» Штокхаузена в Кельне [Электронный ресурс] // OPENSPACE. RU: [веб-сайт]. Электрон. дан. 17.05.2011. URL: http://os.colta.ru/music_classic/events/details/22382
- Рахманова А. «Любовь и другие демоны»: кельнская премьера новой оперы [Электронный ресурс] // Deutsche Welle: [веб-сайт]. Электрон. дан. 10 мая 2010. URL: http://www.dw.com/ru/любовь-и-другие-демоны-кельнская-премьера-новой-оперы/a-5559605
- Санников а Н. В. Модель оперного спектакля К. Штокхаузена: вопросы реализации в опере «Среда» из цикла «Свет» // Музыковедение. 2008. № 3. С. 40-46.
- Frey S. Franz Lehar oder das schlechte Gewissen der leichten Musik. Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 1995.