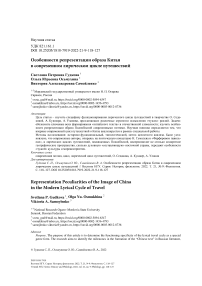Особенности репрезентации образа Китая в современном лирическом цикле путешествий
Автор: Гудкова С.П., Осьмухина О.Ю., Самойленко В.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - изучить специфику функционирования лирического цикла путешествий в творчестве О. Седаковой, А. Кушнера, А. Уланова, предлагающих различные стратегии осмысления «чужих» реалий. Задачи: обозначить ключевые вехи формирования «китайского текста» в отечественной словесности; изучить особенности репрезентации образа Поднебесной современными поэтами. Научная новизна определяется тем, что впервые современный цикл путешествий о Китае анализируется в рамках специальной работы. Методы исследования: историко-функциональный, типологический, метод целостного анализа. Было установлено, что современные авторы, опираясь на поэтическую концепцию Н. Гумилева в «Фарфоровом павильоне», в лирических циклах путешествий, посвященных Поднебесной, воспроизводят не столько конкретное географическое пространство, сколько духовную «составляющую» восточной страны, передают особенности «чужой» культуры и мировосприятия.
Современная поэзия, цикл, лирический цикл путешествий, о. седакова, а. кушнер, а. уланов
Короткий адрес: https://sciup.org/147239025
IDR: 147239025 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-9-118-127
Текст научной статьи Особенности репрезентации образа Китая в современном лирическом цикле путешествий
Цель нашей статьи – научное осмысление особенностей функционирования лирического цикла путешествий в современной поэзии как особой жанровой формы. По справедливому утверждению Л. Е. Ляпиной, «одна из фундаментальных проблем, открытых литературоведением XX века, – это явление литературной циклизации, т. е. объединения групп самостоятельных произведений в новые многокомпонентные единства – циклы» [1998, c. 170]. Совершенно очевидно, что на сегодняшний день многие вопросы, связанные с определением жанровой специфики, генезиса, эволюции, типологии лирического цикла в целом и цикла путешествий, синтезирующего в себе жанровые черты лирического цикла и травелога, в частности, остаются открытыми. Изучение художественных особенностей цикла путешествий о Китае, где важную идейно-смысловую функцию играют географические топосы, описаны инонациональные культурные реалии и традиции, воплощена философия Востока, представляется актуальным, поскольку позволяет сделать объективные выводы как о специфике лирического цикла путешествий, так и о ключевых тенденциях развития современной отечественной поэзии.
Оговоримся, что проблема изучения лирической циклизации в отечественном литературоведении возникает сравнительно недавно, в частности теоретические подходы к ее осмыслению начинают разрабатываться лишь в середине XX в. Основой для современных исследований лирического цикла служат работы М. Н. Дарвина [2003] Л. Е. Ляпиной [1977; 1999], И. В. Фоменко [1992] и др., при этом жанрово-видовые особенности лирического цикла путешествий в отечественном литературоведении рассматривались главным образом на материале отечественной поэзии XIX столетия [Ляпина, 1999]. Образ Китая изучался на материале творчества поэтов Серебряного века (см. [Медведева, 2008; Красноярова, 2019; Пороль, 2020] и др.).
Предмет исследования в нашей статье – особенности репрезентации образа Китая в лирическом цикле путешествий рубежа XX–XXI вв.
Результаты исследования
Китай как инонациональный мир с древнейшей культурой, обычаями, особым мировиде-нием становится «экзотическим» источником вдохновения и систематическим предметом интереса для европейцев уже в XVIII – начале XIX в. (достаточно вспомнить, к примеру, Ж.-Б. Дюальда, Вольтера, Г. Гейне, Дж. Г. Байрона и др.). В России накопление знаний о Китае первоначально шло через «посредничество» Запада и выражалось в первую очередь в знакомстве отечественного читателя с публикациями о Китае и китайскими классическими произведениями не в оригинале, но в переводах и «переложениях» на английский и французский языки, которые, по справедливому замечанию В. Б. Кондакова, «сформировали в сознании русской публики интерес к стране и способствовали возникновению определенного первичного “фона”, культурного контекста. Существенное продвижение в этом направлении произошло в XIX в.» [Кондаков, 2017, c. 125].
Действительно, постепенно формирование «китайской темы» прежде всего в русской прозе начинается в 1830–1850-х гг., когда появляются «4338-год: Петербургские письма» (1835) В. Ф. Одоевского, «Фаньсу, или Плутовка горничная: Китайская комедия знаменитого Джин-Дыхуэя» (1839) О. И. Сенковского, а также книга очерков «Фрегат “Паллада”» (1858) 1 И. А. Гончарова. Если романы Одоевского и Сенковского далеки от воссоздания исторически достоверных реалий и воспроизводят особый китайский колорит, то Гончаров подробно описал своеобразие географического месторасположения страны, особенности национального характера, организацию труда китайского народа и т. п., репрезентуя Китай как особый, самобытный мир, интересный для России в своей похожести с ней.
В отечественной поэзии интерес к Поднебесной фиксируется несколько позднее, в творчестве поэтов Серебряного века: К. Бальмонта, В. Брюсова, Н. Гумилева, В. Хлебникова, В. Маяковского и др. Рассматривая образ Китая в рецепции поэтов рубежа XIX–XX вв., П. В. Пороль объясняет специфику освоения «китайского текста» именно в этот период увлечением русских поэтов китайскими – Ли Бо, Ду Фу, Ван Чанлина и др.: «Имеет место феномен творческого осмысления и освоения китайской эстетики (не только в поэзии, но и мифологии и философии Дао) в контексте индивидуальных поэтических систем К. Бальмонта, Н. Гумилева, В. Хлебникова, М. Цветаевой» [Пороль, 2020, c. 8]. Действительно, большое влияние на формирование мифопоэтики Серебряного века оказала религиозно-философская концепция Дао с ее нерасторжимостью реального и идеального, которая найдет полномерное развитие в «Великом Ничто» (1900), «Китайском небе» (1921) К. Бальмонта. Однако, отметим, в лирике К. Бальмонта не обнаруживается крупных поэтических форм, где образ Поднебесной выступает в качестве сюжетообразующей основы, стержневой доминанты.
Стремление к масштабной репрезентации «Священного Китая» представлено в стихотворении «Путешествие в Китай» (1910) и сборнике «Фарфоровый павильон» (1918) Н. Гумилева. Причем в последнем представлен развернутый образ восточной страны, ее философской мудрости, призывающей к гармонии и внутренней созерцательности. Следует отметить, что Н. Гумилев совершал путешествия в далекие, экзотические страны, но в Китае никогда не был. Однако интерес к этой стране поэт проявлял на протяжении всей жизни. Приобщение к Китаю шло через освоение культурной и духовной составляющей: еще в ранний период жизни он мог созерцать редкие китайские экспонаты, находившиеся в Екатерининском дворце в Петербурге; был хорошо знаком с переводами древних китайских манускриптов отца Иакинфа. Находясь в Париже, Н. Гумилев имел возможность познакомиться с обширной коллекцией китайского искусства из Музея Восточного искусства имени Гимэ и других музейных комплексов 2. В своем сборнике поэт передал сложный синтез реалистических и мифологический представлений об этой удивительной восточной стране.
Однако «Фарфоровый павильон» Н. Гумилева не может быть отнесен к циклу путешествий, так как в его основе лежит не маршрут путешествия и осмысление определенного географического пространства, а постижение китайского миропонимания как целостной системы. В «китайских стихах» поэт не только воссоздал специфику восточного образа мышления, но и передал особенности национального образа мира. Китай не стал в «Фарфоровом павильоне» реальным географическим пространством с его конкретной топонимикой и ономастикой. В нем Н. Гумилев создал образ восточного мира, в котором совершается ду- ховное странствие лирического героя, и в этом отношении сборник «китайских стихов» может быть рассмотрен как философский. Именно поэтическая концепция Н. Гумилева в освоении образа Китая оказала значительное влияние и на современную отечественную поэзию (В. Аристов, А. Скидан, А. Уланов, Н. Азарова, А. Глазова и др.), и, в частности, на развитие лирического цикла путешествий.
Своеобразным продолжением художественных исканий русских поэтов Серебряного века в постижении образа Китая можно считать «Письма династии Минь» (1977) И. Бродского, «Китайское путешествие» (1986) О. Седаковой, «Сплошной Китай» (2004) А. Уланова, «Китайские стихи» (2005) П. Лукьянова, «В Китае» (2016) А. Кушнера, в которых наблюдается глубокий синтез жанровых черт философского цикла и цикла путешествий. Китайские константы становятся сюжетообразующей основой в раскрытии важных мировоззренческих идей: трагизм жизненных основ, духовность / бездуховность, мудрость бытия и др.
Так, в лирическом цикле О. Седаковой «Китайское путешествие» отчетливо проявляется синтез философского цикла и цикла путешествий. Китай близок поэтессе не только как страна глубочайшей мудрости, но и страна, которая манит автора своей загадочностью, самой атмосферой. Весьма примечательна архитектоника цикла. Он состоит из восемнадцати поэтических текстов, каждый из которых представляет собой определенную ступень в постижении образа Китая. При этом автор продолжает философско-поэтическую традицию в репрезентации оппозиции Восток – Запад. Многочисленные аллюзии на памятники древнекитайской литературы помогают передать особенности китайской культуры, национального менталитета, отличного от европейского. К примеру, традиционные для китайской живописи образы «отвязанной лодки» и «обломанной ветки» ассоциируются с образом современного человека, находящегося в поиске жизненного пути:
Отвязанная лодка плывет, не размышляя, обломанная ветка прирастет, да не под этим небом
(Седакова, 2001).
О. Седакова, погружаясь в особенности китайской философии, пытается постичь сущность человеческой личности, ее связь с природой и мирозданьем. В своих поэтических размышлениях автор опирается на учение Лао-цзы. Не случайно эпиграфом к циклу она берет цитату из творчества китайского философа об особом взгляде на мир природы и человека.
Согласно теории даосов, люди должны научиться жить в гармонии с природой; они призывали к тщательному изучению мира и основ его бытия. При этом большое значение даосизм отводил человеку, который рассматривался как микрокосмос, а первостепенной задачей его было найти свое место в мироздании. Обретение гармонии человека и природы, согласно древнему учению, становится смыслом жизни 3.
Ориентируясь на основные положения древней китайской философии, лирическая героиня О. Седаковой находится в поиске внутренней гармонии:
Только увижу, что бывает с человеком, – шла бы я за ним, плача:
сколько он идет, и я бы шла, шагала таким же не спорящим шагом
(Седакова, 2001).
Этой же цели служат и ассоциативные связи с творчеством известного китайского поэта Ли Бо, что наиболее ярко прослеживается в тринадцатом стихотворении цикла. Образ древ- него поэта, столь чутко и тонко умевшего запечатлеть окружающий мир, пронизывает всю структуру цикла, присутствуя в нем не только в качестве художественного атрибута, но и в качестве духовного наставника лирической героини. Это очевидно прежде всего из названия лирического цикла – «Китайское путешествие», ведь, как известно, и Ли Бо, и Басё, и Исса, и Тиё любили и умели совершать долгие одинокие переходы, подолгу могли уединенно жить вдали от суеты. Именно так и поступает лирическая героиня «Путешествия». Она совершает некий физический переход в пространстве, на что указывают сменяющие друг друга пейзажи: вот приветствие Китаю с его хрупкими ивами; вот говорящий пруд; вот «широкие глаза храмов»; вот гора с хижиной на вершине; вот крыши пагод; вот путник в белой одежде, бредущий по тропке. Стихи, составляющие цикл О. Седаковой, намеренно создают своеобразное «эхо» поэзии Ли Бо, и отголоски эти воплощаются прежде всего в конструкции строф и в наборе образов (луна, вода, лодка, вино, одиночество, путь).
Избранная авторская стратегия не только демонстрирует специфику авторского мирови-дения, натурфилософию, но и возможные пути сближения Востока и Запада. Восточная сосредоточенность на мироздании и личностный аспект, лежащий в основе христианской традиции, по мнению поэта, и должны привести к сближению с природой, обретению внутренней гармонии современного человека, находящегося в поиске «своего пути». Отсюда – изобилие олицетворений в репрезентации природного мира Поднебесной: пруд «говорит», «лодка плывет, не размышляя», вода «улыбалась»; здесь у гор есть «сердце», у храмов – «глаза», а крыши пагод – «как удивленные брови».
Очевидно, что лирический цикл О. Седаковой репрезентован прежде всего как философский, однако принципиальное значение в нем приобретает мотив путешествия, который осмысливается с опорой на китайскую философию: путешествие – это не просто реальный путь по восточной стране, оно становится метафорой и странствия по дорогам бытия, и жизненного пути человека, и дороги к мудрости, а также символом загробного странствия.
Отличительной особенностью поэтических текстов, посвященных Китаю, является попытка соединить европейскую и восточную культуры. Весьма показателен в этом контексте и «Сплошной Китай» А. Уланова. Этот лирический цикл «китайских стихов» также не имеет характерного для циклов путешествий указания маршрута, отраженного в заголовочном комплексе. По своей структуре он напоминает дневник путешественника. Лирический герой здесь тесно связан с образом самого автора. Подтверждение этому мы находим в словах А. Уланова: «…китайская культура, несмотря на длительный опыт жизни и работы в Китае, так и не стала близка. С конфуцианством из-за его морализма и сосредоточенности только на социальном у меня точек соприкосновения быть не может. <…> С даосизмом некоторые точки соприкосновения есть, есть прямые отсылки к нему в цикле “Сплошной Китай” <…>. Но и даосизм мне не близок из-за его неличностности. Я все-таки европеец и считаю, что Европа не рационализм, доведенный до абсурда, а личность с ее противоречиями и подвижностью» 4.
Заметим, что лирический герой цикла «Сплошной Китай» не просто путешественник, восхищенный китайской культурой и философией. Он становится не праздным наблюдателем, а сливается с Поднебесной, смотрит на мир сквозь призму китайского мировосприятия. Во всем чужом лирический герой пытается найти свое, родное, и образы китайского мира соединяются в одно целое с привычными, родными образами (подобная «двуплановость», на наш взгляд, при всей топографической «разности» сближает «Сплошной Китай» с «Персидскими мотивами» С. Есенина):
Гарантийный срок – какой регулярный стих просто еще один вколоченный гвоздь
Муравьев достаточно не хватает птиц сойка Штутгарта боболинк Амхерста самарский дрозд
(Уланов, 2004).
или:
Выйти на берег течение унести а чужим и многим неинтересен край арт нуво небоскребы Москва в пути что везде означает сплошной Китай
(Уланов, 2004).
Следует заметить, что именно благодаря многочисленным образам, отсылающим к символике Китая, поэту удалось ввести сквозные мотивы. Так, молчание и речь становятся центральными понятиями, над которыми размышляет лирический герой:
Влезть по уши в неоткрывающуюся речь и письмо сплошное различие не для меня может там потерянный голос и есть ты сначала пойми что приходится есть только это уже совершенно другое ты на исходе дня
(Уланов, 2004).
Его философские искания должны привести к осмыслению так называемого «третьего языка». Лирический герой, пребывая в чуждом для него восточном мире, познает новый язык поэзии - язык, который позволяет размышлять о пустоте, является некой золотой серединой между молчанием и речью. Именно с его помощью становится возможным говорить привычными словами о чем-то непривычном, чужом.
В отличие от О. Седаковой и А. Уланова, А. Кушнер создает цикл «В Китае», сохраняя характерные жанровые черты цикла путешествия, где в основе лирического сюжета лежат маршрут путешествия и образ страны, посещаемой поэтом-туристом. Этот поэтический текст включает в себя шесть стихотворений. С самого начала цикла лирический герой, близкий к образу самого автора, затрагивает актуальную для современной литературы тему - неизу-ченность Китая:
Мы к Риму пригляделись и Парижу,
В Египте даже были, как Кузмин
Говаривал покойный, и на Крите,
Но эту стену видел я один
Из всех, кого я знаю, извините
(Кушнер, 2016).
Делясь своими впечатлениями, путешественник в первую очередь делает акцент на состоянии спокойствия, которое позволяет ему войти в дзэн - умиротворенное созерцание. Такое состояние создается за счет многочисленных эпитетов: «ползущие облака», «благосклонный полет бабочки» и др. Возникающие образы - небо, бабочка, облака, пагоды - позволяют проникнуться умиротворенной атмосферой Поднебесной. Поэтому не случайно лирический герой, созерцая мир вокруг себя, вспоминает поэтов Ли Бо и Ду Фу, тем самым как бы объединяя Запад и Восток: «Ли Бо был бы счастлив, Ду Фу б меня понял» (Кушнер, 2016).
Дальнейший путь лирического героя побуждает его еще больше погрузиться в размышления, и даже простой рассказ экскурсовода заставляет задуматься об одной из вечных тем -причинности происходящего. Следует заметить, что мотив общности культур, введенный в начале цикла, получает развитие в дальнейших размышлениях путешественника. Он приходит к выводу, что разница менталитетов не определяет «лучшую» нацию, каждый этнос неповторим в своей индивидуальности:
Что сказать о китайцах? Китайцы ничем не хуже
И не лучше бельгийцев, французов и, скажем, нас
(Кушнер, 2016).
Пребывание в Пекине, поражающем воображение путешественника масштабностью и многочисленностью небоскребов, помогает увидеть этот город совершенно с другой стороны. Лирический герой, а вместе с ним и читатель, осознает, что именно в Китае, густонаселенной стране, и зарождается прогресс, который гармонично вливается в древнюю культуру, образуя уникальный тандем – единство Востока (древних учений, традиций) и Запада (современных высотных зданий, технологичной инфраструктуры).
Важно заметить, что мотив пути проявляется в цикле не только посредством передвижения самого лирического героя, но и благодаря образу поезда, возникающему в пятом стихотворении цикла:
Знаете, маленький поезд такой,
Змей двухвагонный и многоколесный,
Рельсы ему не нужны, расписной,
Полуигрушечный и несерьезный,
В нем, не имеющем стекол, сидят,
Как на веранде, пока объезжают…
(Кушнер, 2016).
Метафора «змей двухвагонный и многоколесный» позволяет не только передать атмосферу китайской культуры, в которой змей является одним из двенадцати священных животных, но и поддержать размеренное повествование, заданное в начале цикла. Плавное движение поезда, пассажиры которого умиротворенно созерцают природу и архитектуру вокруг, – метафора самой жизни. Лирической герой говорит о конечности жизненного пути, которая дает возможность переосмыслить свои приоритеты, избавиться от ненужных опасений:
…кончается путь
Там, где был начат. Проехав по кругу,
Что разглядели мы? Может быть, суть
Жизни и смерти, прижавшись друг к другу:
Жизнь не опасна, и смерть не страшна.
Кто бы подумал, что надо за этим
Ехать в Китай? И как будто она
Только китайцам открыта и детям
(Кушнер, 2016).
Для путешественника становится откровением не столько идея отсутствия страха перед жизнью и смертью, сколько мысль о том, что глубокое осознание этой идеи возможно лишь в Китае. Этим лирический герой подчеркивает уникальность атмосферы Поднебесной – места, в котором значительно проще испытать состояние гармонии и внутреннего покоя.
Заключение
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Поэты рубежа XX–XXI вв., продолжая поэтические традиции Серебряного века, в своих лирических циклах путешествий, посвященных Поднебесной, не столько воспроизводят конкретное географическое пространство, сколько акцентируют внимание на духовной «составляющей» восточной страны. Со- временные авторы, используя жанровые возможности цикла путешествий, репрезентируют мифологический тип мышления Китая, где человек является неотъемлемой частью мира природы. Многочисленная «знаковая» атрибутика, черты географического месторасположения присутствуют в циклах всех трех поэтов и передают прежде всего особенности инонационального мировосприятия: спокойствие, созерцательность, сосредоточенность на внутренней духовной жизни, мистическое единение с природой.
Отличительная особенность современных отечественных циклов путешествий о Китае состоит в том, что они выстраиваются как по следам воображаемого путешествия (О. Седакова «Китайское путешествие»), где важную роль играют ассоциативно-метафорические связи и образы, так и реально совершенного (А. Уланов «Сплошной Китай», А. Кушнер «В Китае»). Ключевым при этом становится мотив духовного пути, нацеленный в «версии» О. Седаковой на обретение лирической героиней внутренней гармонии, в цикле А. Кушнера – на переосмысление собственного бытия, у А. Уланова же оказывающийся возможностью «слиться» с чужой культурой и взглянуть на себя глазами «другого».
Интересуясь китайской культурой, современные поэты стремятся балансировать между акцентуацией особенностей изображения «западной» и «восточной» картин мира (А. Уланов). Возможности китайской поэзии они принимают не как экзотические, но как органические (А. Кушнер). В цикле путешествий о Китае О. Седаковой нет четкого географического маршрута, сюжет развивается благодаря художественному образу страны, сотканному из многочисленных сквозных образов, выстраиваемых посредством ассоциативных связей, что отчасти отражает «женский» взгляд на мир, которому свойственна некая интимность, испо-ведальность и пристальное внимание к деталям. «Мужская» версия поэтического травелога А. Уланова и А. Кушнера более ориентирована не столько на фиксацию впечатлений лирического героя, сколько на аналитическое осмысление этих впечатлений, передачу достоверного инонационального колорита, раскрытие характерных черт китайской культуры в сопоставлении с иными, европейскими, реалиями.
Список литературы Особенности репрезентации образа Китая в современном лирическом цикле путешествий
- Варакина М. И. Идеи единства природы и человека в даосизме // Учен. зап. Забайкальского гос. гум.-пед. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. 2009. № 4. С. 75-80.
- Зейферт Е. Китайское в новейшей русской поэзии: синхронная многомерность, идеограмма и взаимообогащение художественных элементов // НЛО. 2018. № 6. C. 45-50.
- Дарвин М. Н. Художественная циклизация лирики // Теория литературы: В 4 т. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Т. 3: Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). С. 467-493.
- Кондаков В. Б. Китайский текст и китайский контекст в русской литературе XIX века (к постановке проблемы) // Евразийский гуманитарный журнал. 2017. № 3. С. 123-127.
- Красноярова А. А. «Китайский текст» русской литературы: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Пермь, 2019. 23 с.
- Ляпина Л. Е. Лирический цикл в русской поэзии 1840-1860-х гг.: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1977. 22 с.
- Ляпина Л. Е. Литературная циклизация (к истории изучения) // Русская литература. 1998. № 1. С. 170-178.
- Ляпина Л. Е. Циклизация в русской литературе XIX века. СПб.: НИИ химии СПбГУ, 1999. 281 с.
- Медведева Н. Г. Образ Китая в русской поэтической традиции (Н. Гумилев, О. Седакова, И. Бродский) // Вестник Удмурт. ун-та. 2008. № 1. С. 53-72.
- Пороль П. В. Китай в рецепции поэтов Серебряного века (поэтика и эстетика): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2020. 25 с.
- Раскина Е. Ю. Образы китайской культуры в творчестве Н. С. Гумилева // Вестник Вят. гос. ун-та. Серия Лингвистика. 2008. № 4. С. 93-98.
- Фоменко И. В. Лирический цикл: становление жанра, поэтика. Тверь: ТГУ, 1992. 124 с.