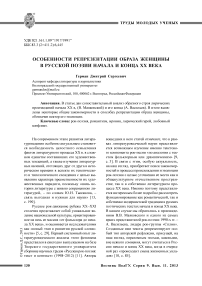Особенности репрезентации образа женщины в русской поэзии начала и конца ХХ века
Автор: Герман Дмитрий Сергеевич
Рубрика: Литературоведение и журналистика: взгляд из XXI века
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье дан сопоставительный анализ образного строя лирических произведений начала ХХ в, (В. Маяковский) и его конца (А. Васильев). В итоге выявлены некоторые общие закономерности в способах репрезентации образа женщины, обозначен вектор его эволюции.
Рок-поэзия, романтизм, ирония, лирический герой, любовный конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/14967895
IDR: 14967895 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Особенности репрезентации образа женщины в русской поэзии начала и конца ХХ века
На современном этапе развития литературоведения особенно актуальным становится необходимость целостного осмысления фактов литературного процесса ХХ в. в сложном единстве составивших его художественных тенденций, а также изучения литературных явлений, отстоящих друг от друга в историческом времени в аспекте их генетического и типологического схождения с целью выявления характера преемственности их художественных парадигм, поскольку «связь истории литературы с живою современною литературой, – по словам Ю.Н. Тынянова, – связь выгодная и нужная для науки» [13, с. 190].
Русское рок-движение рубежа ХХ–ХХI столетия представляет собой уникальное явление национальной культуры, ориентированное на весь ее массив «от фольклора до начала XX века», и оценивается исследователями как «новый этап в развитии русской словесности» [5, с. 29]. Первый системный опыт литературоведческого анализа этого феномена представлен в ежегодно выпускаемом на базе Тверского государственного университета сборнике научных трудов «Русская рок-поэзия: текст и контекст» (1998–2012) [11]. Авторы вошедших в него статей отмечают, что в рамках литературоведческой науки представляется возможным изучение именно текстового компонента рок-песни «по аналогии с текстом фольклорным или драматическим» [9, с. 3]. В связи с этим, особую актуальность, на наш взгляд, приобретает поиск закономерностей в процессе происхождении и эволюции рок-поэзии с целью уточнения ее места как в общекультурном отечественном пространстве, так и в собственно литературном процессе ХХ века. Именно поэтому представляется интересным более подробно рассмотреть функционирование как романтической, так и собственно модернистской традиции в русских поэтических текстах начала и конца ХХ века. В нашем случае мы обратились к произведениям В.В. Маяковского и одного из самых ярких представителей рок-поэзии 1990-х гг. – А. Васильева, лидера рок-группы «Сплин». Созданные ими тексты репрезентируют особый тип авторской рефлексии, присущей, на наш взгляд, переломным эпохам, каковыми, вне всякого сомнения, могут считаться в России начало и конец ХХ века, когда в очередной раз «происходит смена жизненных укладов» [10, с. 85].
Основной чертой романтического мышления, как известно, является ключевая оппозиция «идеал – реальность», которая проявляется, прежде всего, в стремлении автора вырваться за пределы реального мира, суть которого ему непонятна и враждебна, или же, напротив, герой – единственный, кто ясно видит несовершенство, ужас и обреченность реальности. При этом подчас единственной очевидной силой, способной спасти человека, становится его возлюбленная. Ее образ, получая характерное эстетическое завершение в художественных парадигмах предлагаемых для сопоставления авторов, является той тематической константой, обращение к которой позволит не только выявить типологическую и генетическую общность этих парадигм, но и сделать выводы о способе функционирования традиции в художественных текстах, на десятилетия отстоящих друг от друга в литературном процессе.
При сопоставлении приемов создания образа женщины в художественных системах В. Маяковского и А. Васильева нами был выявлен ряд очевидных схождений.
Так, в системе художественных образов раннего Маяковского женщина становится для лирического героя воплощением идеального начала, она «обожествляется, так как представляет в глазах поэта высшие субстанциональные силы бытия» [6, с. 37]. Функция этого образа – спасти лирического героя от враждебного и ненавидимого им мира, помочь ему снять маску «бесценных слов мота и транжира» [8, с. 56], проявить скрытую и/или скрываемую человечность, искренность, дать возможность ловить «на ссохшихся губах каналов – // дредноутов улыбки» [8, с. 53]:
Нежно говорил ей – мы у реки шли камышами:
«Слышите: шуршат камыши у Оки.
Будто наполнена Ока мышами.
А в небе, лучик сережкой вдев в ушко, звезда, как вы, хорошая, – не звезда, а девушка...» [8, с. 91].
Лирический герой Маяковского, пораженный красотой возлюбленной, все более отчетливо фиксирует парадоксальность и алогичность мира, на что и направлен общий иронический пафос его высказываний. Сочетание несочетаемого, нацеленность на интонационный, стилистический и собственно семантический оксюморон порождает «сопряжение несопрягаемых смыслов» [13, с. 353]. В результате сложный синтез идеализации и иронии стирает грань между мечтой и реальностью, травестируя сам романтический пафос.
Сакральность в синтезе с иронией замечаем и в образе героини Васильева:
Я был свидетель тому, что ты – ветер, Ты дуешь в лицо мне, а я смеюсь [2, с. 25].
А также:
Вишневый плод запретных губ
Не перезреет, не сгниет,
Ты словно излучаешь свет, Я напишу с тебя портрет
И сдам рублей за восемьсот [2, с. 18].
И Васильев и Маяковский, используя при создании образа возлюбленной характерные для эстетики романтизма мотивы – божественной красоты, неординарности, исключительности ее природы, сопрягают их с иронией, тонко, еле уловимо передаваемой с помощью стилистических средств, нацеленных не столько на резкое снижение образа, сколько на его легкое «заземление». Так, передача красоты женщины через довольно устойчивую метафору губ-вишен, оживляются более приземленной параллелью: в отличие от плодов вишни они не подвержены порче; сходный эффект вызывает и применение разговорной формы «с тебя» на фоне светоносности образа возлюбленной.
Вместе с тем, образ женщины как у Маяковского, так и у Васильева зачастую несет в себе черты хаотического, стихийного начала, что нарушает порядок жизни героя, терзает его и нацеливает на бунт:
Сегодня сидишь вот, сердце в железе.
День еще – выгонишь, может быть, изругав [8, с. 107].
И далее:
дайте любую юную, – души не растрачу, изнасилую и в сердце насмешку плюну ей! [8, с. 104]
Сходные мотивы находим и у А. Васильева:
Она сожгла дрова и принялась за книги,
Она не знала, кто топил ее в реке [2, с. 30]
А также:
Я люблю тебя, и я хочу, я хочу,
Я хочу тебя убить [2, с. 55].
Отметим, что в художественной картине мира и Маяковского, и Васильева образ женщины сопряжен с природными реалиями, контрастируя с подчеркнуто «городским» топосом лирического героя. Сравним:
у Маяковского:
Морей неведомых далеким пляжем идет луна – жена моя.
Моя любовница рыжеволосая [8, с. 46]
Девушка пугливо куталась в болото [8, с. 52] В шелках озерных ты висла, янтарной скрипкой пели бедра? [8, с. 46] Вулканы-бедра за льдами платий, колосья грудей для жатвы спелы [8, с. 44].
У Васильева:
Будь моим богом, березовым соком [2, с. 25] Знаешь, я хотел уйти с тобою сквозь лес [2, с. 43]
Мы лежим на облаках,
А внизу бежит река [2, с. 49].
Знают только сосны и янтарная смола, Как в высоких травах сплетаются тела.
Ты спроси у флейты из сухого тростника, Что на дне своем скрывает мутная река, Моя любовь [2, с. 58].
В художественной системе обоих авторов лирический герой счастлив только за пределами города, на природе, куда он переносится с возлюбленной, что является явной отсылкой к эстетике романтизма. Но, если возлюбленная Маяковского существует исключительно вне города, Васильев нередко помещает женщину в то же урбанистическое пространство героя, тем самым десакрализируя ее:
Сядь в разбитый трамвай и, глаза закрывая, увидишь меня [2, с. 54].
И может быть, ты не стала звездой в Голливуде
И далее:
Но задернуты шторы, и разложен диван [2, с. 109].
Заметим, что Васильев, лишая женщину божественных качеств, дает ей определенную независимость от мужчины, тем самым направляя вектор иронической насмешки уже на лирического героя:
У нее было правило – не доверять тем, Кто собой заслоняет свет.
И я снял с нее платье,
А под платьем бронежилет [2, с. 28].
Наряду с эмансипированной женщиной у А. Васильева можно заметить и иную модель репрезентации женского сознания – она нередко предстает слабой и нуждающейся в защите:
Я расскажу тебе, как пчелы строят соты, Я научу тебя стрелять из пулемета [2, с. 30].
Или:
Я объяснил тебе, где в квартире спрятался душ Твои соленые слезы, кислые мины, душные речи [2, с. 66].
Спи в заброшенном доме то в сладкой истоме, то в судорогах.
И далее:
Плачь испуганным зверем, и вырастет дерево из мертвого пня [2, с. 54].
Таким образом, если у Маяковского хаос мироздания иронично выражается через образ «адища города» [8, с. 50], то Васильев направляет свою рефлексию через иронично деформирующуюся психику некогда обожествленной героини. Именно за счет утраты женщиной идеального начала в эстетической системе Васильева наблюдается и размывание типичных романтических дихотомий, в полной мере представленных у Маяковского: «идеал – реальность», «я – они», «бунтующий человек – спасительная сила женщины-идеала». Это также достигается за счет иронии, но если у Маяковского ирония обнажает алогизм реальности на фоне идеального порядка – любви, то у Васильева ирония зачастую нацелена на сам образ женщины, которая «стала на ступеньку выше. Обзавелась мобильным телефоном. Начала устраивать пресс-конференции» [14]. Реальный мир-хаос поэтому воспринимается героем Васильева как единственно возможный, лишающий человека возможности не только стремления к лучшей жизни, но и самого факта наличия альтернативы существующей форме бытия. Это и приводит поэта конца ХХ в. к процессу «игрового освоения этого хаоса, превращения его в среду обитания человека культуры» [7, с. 21]:
Нам сказали то, что мы одни на этой земле Мы поверили бы им,
Но мы услышали выстрел в той башне [2, с. 43].
Подобный набор приемов позволяет определять характер образ женщины Васильева как подражание художественной манере первых стихотворных опытов Маяковского. Полагаем, что данная стратегия в построении образа обусловлена следованию заданной им традиции, заимствуя канонические для нее художественные приемы.
Образ женщины Васильева, с одной стороны, – продукт типологического схождения эстетических установок двух поэтов, принадлежащих разным временных пластам, но связанных характером общественно-политической ситуации, на которую и направлен бунт героя с его стремлением к идеалу, представленному женщиной. С другой стороны, очевидна генетическая связь образа женщины Васильева с эстетическими установками Маяковского, проявляющаяся, во-первых, в раскрытии ее божественного начала, во-вторых, в сопряжении ее образа природным реалиям, в-третьих, в характере иронического пафоса, открывающего несовершенство мира. Васильев активно использует характерные поэтические приемы Маяковского в своем творчестве, иногда делает их узнаваемыми, очевидно реминисцентными, но зачастую все-таки «достраивает» новыми смыслами, усложняя и применяя к современным ему реалиям.
Список литературы Особенности репрезентации образа женщины в русской поэзии начала и конца ХХ века
- Абрамс, М. Г. Апокалипсис: тема и вариации/М. Г. Абрамс//НЛО. -2000. -№ 6(46). -С. 5-31.
- Васильев, А. Сплин. Тексты песен/А. Васильев. -М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2008. -221, [3] с.
- Воробьева, С. Ю. Многоуровневая структура текста как модель его целостного восприятия и анализа/С. Ю. Воробьева//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. -2013 -№ 2. -С. 90-93.
- Воробьева, С. Ю. Семиотический анализ художественного текста/С. Ю. Воробьева//Слово -образ -текст -контекст: материалы Всероссийской научно-методической конференции «Слово -образ -текст -контекст». г. Одинцово Московской обл., ОГИ, 24-25 мая 2011 года. -Одинцово: АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт», 2012. -С. 16-20.
- Доманский, Ю. В. Русская рок-поэзия: проблемы и пути изучения/Ю. В. Доманский//Русская рок-поэзия: текст и контекст: сб. науч. трудов. -Тверь: Тверской государственный университет, 1999. -Вып. 2. -С. 26-38.
- Манн, Ю. В. Динамика русского романтизма/Ю. В. Манн. -M.: Аспект Пресс, 1995. -384 с.
- Маньковская, Н. Б. От модернизма к постпостмодернизму via постмодернизм/Н. Б. Маньковская//Коллаж-2: Социально-философский и философско-антропологический альманах/РАН. Ин-т философии; отв. ред. В. А.Кругликов. -М.: ИФ РАН, 1999. С. 18-25.
- Маяковский, В. В. Полное собрание сочинений. В 13-ти томах. Т. 1: 1912-1917/В. В. Маяковский; подгот. текста и прим. В. А. Катаняна. -М.: Худож. лит., 1955. -463 с.
- От редколлегии//Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. трудов. -Тверь: Тверской государственный университет, 1998. -Вып. 1. -С. 3-5.
- Проблемы романтизма: сборник статей/сост. У. Р. Фохт. -М.: Искусство, 1967. -359 с.
- Русская рок-поэзия: текст и контекст: сб. науч. трудов. -Тверь: Тверской государственный университет, 1998. -Вып. 1. -131 с.
- Толмачев, В. М. Неоромантизм/В. М. Толмачев//Литературная энциклопедия терминов и понятий/сост. А. Н. Николюкин. -М.: Интелвак, 2001. -С. 640-646.
- Тынянов, Ю. Н. Литературная эволюция: Избранные труды/Ю. Н. Тынянов. -М.: Аграф, 2002. -496Tс.
- Федоров, Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время/Ф. П. Федоров. -Рига: Зинатне, 1988. -456 с.
- «Я панк, но в душе». Интервью с Александром Васильевым//TimeOut.ru. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.timeout.ru/journal/feature/1073/. -Загл. с экрана.