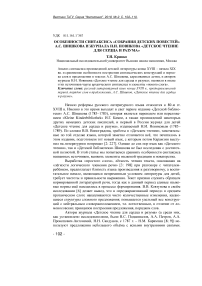Особенности синтаксиса "Собрания детских повестей" А.С. Шишкова и журнала Н.И. Новикова "Детское чтение для сердца и разума"
Автор: Кривко Татьяна Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования лексики и грамматики
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
Анализ синтаксиса произведений детской литературы конца XVIII - начала XIX вв. и сравнение особенности построения синтаксических конструкций и порядка слов в предложении в текстах А.С. Шишкова, адресованных детям, и авторов журнала Н.И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума», выявили в языке этих источников черты архаического синтаксиса и элементы «нового слога».
Русский литературный язык конца xviii в., предкарамзинский период, порядок слов в предложении, а.с. шишков, "детское чтение для сердца и разума"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281231
IDR: 146281231 | УДК: 811.161.1`367
Текст научной статьи Особенности синтаксиса "Собрания детских повестей" А.С. Шишкова и журнала Н.И. Новикова "Детское чтение для сердца и разума"
Начало реформы русского литературного языка относится к 80-м гг. XVIII в. Именно в это время выходят в свет первое издание «Детской библиотеки» А.С. Шишкова (1783–1785), которая является переводом или переложением «Кleine Kinderbibliothek» И.Г. Кампе, а также произведений некоторых других немецких детских писателей, и первый в России журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума», издаваемый Н.И. Новиковым (1785– 1789). По словам В.В. Виноградова, «работы в «Детском чтении», замечательные по той отделке языка, которой заметно отличается всё, что печаталось в этом издании, подготовили тот новый язык, с которым потом Карамзин выступил на литературное поприще» [2: 227]. Однако до сих пор язык как «Детского чтения», так и «Детской библиотеки» Шишкова не был исследован с достаточной полнотой. В этой статье мы попытаемся сравнить особенности синтаксиса названных источников, выявить элементы языковой традиции и новаторства.
Выработка «простого слога», лёгкость чтения текста, основанная на «лёгкости логического членения речи» [3: 198] при разговоре с читателем-ребёнком, предполагает близость языка произведения к разговорному, а воспитательное начало, являющееся непременным условием литературы для детей, требует чистоты и правильности выражения. Текст призван служить образцом нормированной литературной речи, тогда как в данный период единые языковые нормы ещё находились в процессе формирования. В.В. Ковтунова в своём исследовании [6] делает вывод, что в «предкарамзинский период» в среднем прозаическом слоге накапливаются чисто количественные изменения, касающиеся структуры сложного предложения; повышается удельный вес конструкций с нейтральным словорасположением, т.е. естественным, в отличие от ломоносовских принципов построения предложения, порядком слов.
Авторы журнала «Детское чтение для сердца и разума» (а среди них, как установлено исследователями, были В.С. Подшивалов, А.А. Петров, А.А. Прокопович-Антонский, Н.Н. Сандунов, с 1787 г. – Н.М. Карамзин [8; 9]) используют предложения небольшого объёма с ясными внутренними связями.
Приведём в качестве примера два небольших фрагмента: первый – из художественной прозы, второй – из научно-популярной статьи.
«Маленькой пискарь жилъ спокойно и весело въ небольшой чистой рѣчкѣ. Высокiя дерева росли около рѣчки и закрывали ее отъ солнечнаго жару, такъ, что вода въ ней всегда была холодна. Заходящее солнце пускало свои лучи на озеро, отъ чего волны его казались позолоченными и отбрасывали отъ себя великолепной блескъ» («Пискарь. Басня») [4.3: 203].
«Чѣмъ болѣе луна удаляется отъ солнца, и чѣмъ ближе подходитъ она въ кру-говомъ своемъ теченiи къ прямой линiи противъ онаго, тѣмъ болѣе прибываетъ ея свѣтъ и тѣмъ болѣе становится намъ видна освѣщенная ея половина. Чрезъ 7 дней, щитая отъ первой четверти, становится она почти прямо противъ солнца. Въ семъ положенiи цѣлой ея полушаръ освѣщаемой солнцемъ бываетъ на землѣ не виденъ. Она восходитъ тогда съ восточной стороны въ самое то время, когда солнце на за-падѣ заходитъ. Сiе называется полномѣсячiемъ» («О переменах луны») [4.5: 46-47].
Простые и сложные предложения, имеющие в своём составе не более двух предикативных частей, нередко встречаются и в «Собрании детских повестей» Шишкова, например:
«Старикъ Честнодумъ съ маленькимъ сыномъ своимъ Тимошею пошелъ далеко въ поле погулять. Тогда былъ прекрасный осенний день, но еще нѣсколько жа-рокъ» («Удалися от зла и сотвори благо, хотя бы то было втайне») [10.1: 111]; «Тимоша побѣжалъ скорѣе домой, схватилъ Николашины пряжки, застегнулъ ихъ кое какъ на скорую руку, спѣша обратно въ садъ, и черезъ часъ мѣста и тѣ опять поте-рялъ» («Худые следствия неопрятности») [10.1: 195]; «Аннушка удивлялась приманчивому наливу яблоковъ, грушъ и персиковъ, ни что не превосходило сладости ихъ вкуса, и самый медъ былъ для нея не слаще» («Надлежит быть довольну всем тем, что уставила природа») [10.1: 210]; «При слабомъ лунномъ свѣтѣ тихонько подкрался онъ къ уборному столику, на которомъ лежали часы» («Счастливо преодоленное на злое дело покушение») [10.2: 2]; «Англинскаго корабельщика, име-немъ Рихардсона, захватила неподалеку отъ Данцига жестокая буря. Съ великимъ трудомъ насилу могъ онъ войти въ гавань» («Великодушие и благодарность») [10.2: 184].
Однако между двумя источниками имеются существенные различия в области синтаксиса, касающиеся объёма и структуры предложения. При сравнительном анализе общего корпуса переводов из «Маленькой детской библиотеки» Кампе можно заметить, что авторы «Детского чтения» предпочитают разбивать текст на небольшие предложения, тогда как Шишков использует сложное предложение с разными видами связи. Приведём пример перевода концовки рассказа Кампе «Die vier Jahreszeiten» («Четыре времени года»):
И. Г. Кампе
Wohl uns, daß es nicht auf uns ankommt, wie es in der Welt sein soll: wie bald wuerden wir sie sie verschlimmern, wenn wir koennten ! [11: 24]
Перевод А. С. Шишкова
Щастливы мы, что не в нашей волѣ состоитъ управлять свѣтомъ, мы бы с полученiемъ власти сей тотчасъ его разрушили [10.1: 124].
Перевод авторов «Детского чтения»
Хорошо, что не от насъ зависитъ то, чему въ мiрѣ быть должно. Какъ скоро испортили бы мы все, естьли бъ могли! [4.1: 61]
По сравнению с «Собранием детских повестей», тексты «Детского чтения» нередко отличаются экономией в использовании лексических средств, что делает структуру предложения проще и легче для восприятия. Так, в рассказе «Молодой путешественник» Шишков использует длинный книжный оборот долженъ былъ вознам ѣ риться вторично предпрiять сiе путешествiе [10.2: 191], авторы журнала – более короткое, нейтральное выражение долженъ былъ снова начать путешествовать [4.2: 16].
Тексты Шишкова изобилуют предложениями большого объёма:
«Старикъ объявленъ добрымъ по тому, что онъ жилъ на свѣтѣ семдесятъ восемь лѣтъ, и ни кого не было, кто бы про него сказалъ что нибудь худое, но напро-тивъ каждой утверждалъ, что онъ отъ самой юности своей всегда прилѣжно рабо-талъ, что всегда былъ услужливъ и благопрiязенъ къ каждому, и что шестерыхъ дѣтей воспиталъ, которыми всякъ былъ доволенъ; сверхъ того имѣлъ онъ осмиде-сятилѣтнюю жену, изъ давнаго времени слѣпую, которая дряхлостiю своею не малый трудъ ему наводила, и о которой однакожъ спокойствiи прилагалъ онъ всевозможное попеченiе, безъ всякаго притомъ роптанiя, и ниже когда-либо на нее или на судьбу свою жаловался» («У доброго господина и слуги добрые») [10.2: 200].
В «Детском чтении» столь пространные предложения практически не встречаются, за исключением конструкций с синтаксическим параллелизмом:
«Естьли человѣческой родъ могъ размножиться въ жестокомъ климатѣ, гдѣ безпрестанно надлежитъ сражаться съ Натурою; естьли сухой, горячiй песокъ, не-проходимыя болота и вѣчной ледъ, могли быть населенными; естьли мы обработали лѣса и степи, гдѣ надлежало намъ защищаться отъ стихiй, дикихъ звѣрей и людей: то могли ли остаться пусты самыя лучшiя земли, гдѣ человѣкъ, не зная ника-кихъ нуждъ, находилъ одно удовольствiе – гдѣ, наслаждаясь лучшими произве-денiями и прекраснѣйшимъ зрѣлищемъ Натуры, не зналъ онъ ни труда, ни безпо-койства, и по справедливости могъ почитать себя превозходнѣйшимъ существомъ и Царемъ всего Естества?» («Описание Ост-Индии») [4.17: 119-120].
Аналогичный пример можно найти в повести Карамзина «Евгений и Юлия», опубликованной в 18-й части «Детского чтения»:
«Когда же наступала пасмурная осень, и густымъ мракомъ все творенiе покрывала – или свирѣпая зима, отъ Сѣвера несущаяся, потрясала мiръ бурями своими; когда въ нѣжное Юлiино сердце вкрадывалась томная меланхолiя, и тихими вздохами колебала грудь ея: тогда бралась за книги, безсмертныя творенiя истинныхъ Философовъ, писавшихъ для пользы рода человѣческаго; тогда читала и перечитывала письма любезнаго Евгенiя, сына госпожи Л*, учившагося въ чужихъ краяхъ» [4.18: 179].
Подобные синтаксические конструкции Шишков не использует. Сравним два фрагмента (рассказ «Нечаянное свидание»):
Когда бывало садился я подлѣ сего свя-щеннаго для меня холма, дабы про-литiемъ слезъ горестное сердце мое облегчить, тогда невинное сiе дитя лежало спокойно на моихъ колѣняхъ, и обнимая меня ручонками, просило чтобъ я не плакалъ; тогда въ лицѣ его распо-знавалъ я черты дражайшей его матери, и прижимая его съ горячностiю къ моей груди, думалъ въ немъ лобызать образъ возлюбленной моей супруги [10.2: 223].
Когда я садился на это священное для меня мѣсто, чтобы слезами облегчить мое сердце, и онъ невинно и спокойно лежалъ в моихъ объятiяхъ; когда обни-малъ онъ меня маленькими своими руками, и просилъ, чтобы я не плакалъ; когда я видѣлъ на лицѣ его черты покойной его матери, – тогда прижималъ я его съ горячностiю къ моей груди, и думал, что обнимаю въ немъ мать его [4.1: 136–137].
В экспрессивно насыщенном тексте описательного характера авторы «Детского чтения» строят предложения посредством сцепления коротких однородных синтаксических конструкций на основе сочинительной или бессоюзной связи, выражение сильных чувств передаётся с помощью многократного использования восклицательного знака, например:
«Прiятная темная роща; тѣнистые дубы! блистающая рѣка, лiющаяся съ шу-момъ изъ за высокихъ горъ! не вами будетъ теперь взоръ мой наслаждаться; я хочу разсматривать пространной лугъ. Какая многоразличная красота! Многiя тысячи растенiй! Миллiоны живыхъ тварей! онѣ либо перелетаютъ со цвѣтка на цвѣтокъ, либо ползаютъ и бѣгаютъ въ темныхъ травяныхъ лабиринтахъ. Несказанно различны онѣ видомъ и красотою, но каждая находитъ здѣсь себѣ пищу, каждая находитъ себѣ радость; каждая изъ нихъ въ родѣ своемъ совершенна» («Луг») [4.6: 202-203].
Элементы устарелого инверсионного синтаксиса и в текстах Шишкова, и в текстах авторов «Детского чтения» редки и являются преимущественно данью книжной традиции. Это относится прежде всего к расположению сказуемого в конце придаточной части сложноподчинённого предложения и препозиции инфинитива в составном и сложном сказуемом. Речь благовоспитанных детей не исключение:
«Нѣтъ, матушка, отвѣчала Маша, я не хочу ихъ [игрушки] прежде взять, покудова не буду такова, какъ въ бумажкѣ написано . Возьмите вы ихъ себѣ, и тогда мнѣ пожалуйте, когда я подлинно такою сдѣлаюсь » (Шишков, «Можно исправиться, когда твердо того захочешь») [10.1: 204]; « Андрей. Вчера, Лизанька, ты очень при-лѣжно слушала, какъ я говорилъ съ тобою о такихъ вещахъ, которыя дѣтямъ какъ можно ранѣе знать надобно , для того, чтобъ люди глупыми ихъ не почитали » (авторы «Детского чтения», «Разговор между братом и сестрою») [4.1: 75].
Вместе с тем и Шишков, и авторы «Детского чтения» передают непринуждённый детский диалог, избегая книжных конструкций и сохраняя особенности живой разговорной речи. Вот пример из диалога «Варинька и Николаша» Шишкова:
«Жаль мнѣ тебя, сестрица! – Да не все же объ этомъ сокрушаться. Пойдемъ со мною, я тебя развеселю; скажу тебѣ про свою охоту: теперь лишь шолъ я здѣсь по саду и вдругъ увидѣлъ – о какъ мнѣ было любо! – увидѣлъ бабочку. Ну ужъ бабочка! какая пестринькая, пригожинькая! ахъ сестрица! ты бы на нее заглядѣлась!» [10.1: 212].
Следующий пример - из научно-популярной статьи «Детского чтения», построенной, как и большинство познавательных материалов журнала, в форме диалога:
Отецъ. МнЪ пришло на умъ одно обстоятельство, для котораго воздухъ, или в^тръ, необходимо нуженъ. - Вы часто слыхали о славномъ Колумб^, которой нашелъ Америку. Какъ могъ онъ туда дойти?
Софiя. Это не новое; мы и безъ тебя знали, что онъ доплылъ на корабл^, а не въ каретй до^халъ.
Отецъ. А что для корабля нужно, чтобы плыть по морю.
(Д4ти догадались, закричали вс 4 вм4ст4: «в^тръ! в4тръ!»)
Софiя. Удивительно, какъ намъ это тотчасъ на умъ не пришло! («Продолжение разговора о воздухе. Разговор третий») [4.4: 140].
Что касается синтаксических конструкций с книжным порядком расположения второстепенных членов при глаголе-сказуемом (управляемое перед управляющим), то в «Собрании детских повестей» они встречаются значительно чаще, чем в «Детском чтении». Шишков используют их, во-первых, как средство украшения речи и эмоционально-экспрессивной выразительности, например:
«Что почувствовало матернее сердце ея, когда она дѣтей своихъ съ воздѣты-ми къ небу руками стоящихъ колѣнопреклоненно на земли увидѣла!» («Набожные дети») [10.1: 52]; во-вторых, как традиционный способ построения предложения: «На пути встрѣтился съ ними извощикъ, которой по весьма каменистой и негладкой дорогѣ лошадей своихъ такъ гналъ, что они принуждены были бѣжать во всю прыть» («Шут и извозчик») [10.1: 186].
Для текстов журнала Новикова типичной является такая свойственная русскому языку схема словорасположения: подлежащее и согласованное определение - в препозиции, обстоятельственная предложная конструкция - после сказуемого, управляющие члены - после глагола, например: «Онъ [Сократъ] говорить съ любезными своими учениками о безсмерт1и души, и ув'Ьряетъ ихъ, что духъ его вознесется въ жилища непрерывнаго блаженства» («Сократ») [4.1: 151].
Остановимся подробнее на позиции прилагательного при определяемом существительном. Если в «предкарамзинский период» употребление качественных прилагательных в постпозиции было стилистически нейтральным, то в «новом слоге», как замечает В.В. Ковтунова, «возникло уже строгое противопоставление препозиции качественных прилагательных как стилистически нейтрального варианта их постпозиции как варианта стилистически окрашенного» [6: 116].
И в «Детском чтении», и в «Собрании детских повестей» Шишкова прилагательное последовательно употребляется в препозиции. В «Детском чтении» постпозиция определения обусловлена прежде всего интонационной структурой текста. Рассмотрим пример употребления словосочетания заря утренняя :
«Можетъ ли человѣкъ остаться нечувствительнымъ въ те минуты, когда мил-л1оны другихъ тварей бож1ихъ приносятъ благодареше Творцу своему? Онъ есть Творецъ красоты и великол^п1я зари утренней; онъ же даровалъ намъ и способ- ность чувствовать красоту сiю. Не достойны ли сожалѣнiя тѣ люди, которые никогда не наслаждаются удовольствiя видѣть утреннюю зарю! О когдабы имѣли они въ себѣ довольно человѣчества, дабы чувствовать радость, какую сiе зрѣлище натуры производитъ удобно! <…> О когда бы уразумѣли они, что единая мысль, происходящая въ насъ при зрѣнiи зари утренней, можетъ содѣлаться основанiемъ помышленiй Христiянскихъ, и что сiе стоитъ того, чтобы сократить нѣсколькими часами сонъ свой! <…> Многой радости лишается тотъ, кто никогда еще не видалъ утренней зари, или, видя ее, не прославилъ Творца своего» («Утренняя заря») [4.6: 32].
В.В. Ковтунова выделяет характерную для синтаксиса Карамзина особенность – использование при описании поэтических картин природы постпозиции некоторых качественных прилагательных в сочетании с несколькими существительными: заря утренняя, роса утренняя, лучи солнечные, – что связано, в частности, с установкой на ритмизацию прозы и тяготением к дактилической клаузуле и женским рифмам (у слова заря рифма мужская) [6: 160-161]. В приведённом выше отрывке автор «Детского чтения», используя (до Карамзина) словосочетания с определением в постпозиции, в том числе заря утренняя, создает определённую просодическую структуру текста, о которой и пишет Ковтунова. Примечательно, что выбивающееся из общего ритма словосочетание с прямым порядком слов утренняя заря употреблено при глаголах с отрицанием: никогда не наслаждаются, никогда еще не видалъ, не прославилъ , т.е. в «прозаических», а не в поэтически возвышенных частях высказывания. Ср. с нейтральным употреблением препозиции прилагательного:
«Во всякое время, а особливо лѣтомъ надобно вставать рано, а естьли можно, вмѣстѣ съ солнцемъ. Утреннiй воздухъ дѣлаетъ кровь свѣжею, а по тому въ лицѣ производитъ живость, и губамъ придаетъ такой же прiятной цвѣтъ, каковъ цвѣтъ утренней зари . Отъ долгова сна лицо бываетъ блѣдно и опухло » («Рецепт для молодых девушек») [4.2: 27].
Таким образом, авторы «Детского чтения» стремятся придать поэтическую окраску тексту за счёт его ритмизации, чем бывает обусловлена и постпозиция причастия в причастном обороте, которая выполняет стилистическую функцию, прежде всего в аллегорических повестях и идиллиях:
«Сказала, и закрывъ волосами лице свое, слезами омоченное , упала на землю передъ жертвенникомъ» («Геснерова смерть») [4.17: 199]; «Представлялось мнѣ, будто преселенъ я въ пустыню, отъ всѣхъ пороковъ и глупостей человѣческихъ удаленную » («Персидская баснь»), [4.20: 12]; «Вдругъ увидѣлъ я чудное явленiе, съ неба сходящее » [4.20: 13]; «шелъ онъ скоро по долинамъ, смотря на холмы, постепенно предъ нимъ возвышающiеся » («Обидаг. Восточная повесть») [4.20: 149]; «иногдажъ забавлялся онъ срывая цвѣты, росшiе по обѣимъ сторонамъ тропинки, либо плоды, на деревахъ висѣвшiе» [4.20: 150].
Анализируя синтаксис текстов «Детского чтения», нельзя не заметить широкое использование авторами знака «тире», который в то время ещё не укоренился в русской печати. В грамматиках и учебных книгах до выхода в свет в 1831 г. «Русской грамматики» А.Х. Востокова о тире ничего не говорится, однако в рукописной «Российской грамматике» А.А. Барсова, составлявшейся им на протяжении 1783–1788 гг. и являющейся наиболее полным описанием грам- матического строя русского литературного языка того периода, среди знаков препинания называется молчанка – длинная черта. Барсов пишет:
«Молчанка (Pausa) начатую рѣчь прерываетъ, либо совсемъ, либо на малое время, для выраженiя жестокой страсти, либо для приготовленiя читателя къ какому нибудь чрезвычайному и неожиданному слову или дѣйствiю въ послѣдствiи но больше всего служитъ она къ раздѣленiю лицъ разговаривающихъ, что бъ не имѣть нужды именовать ихъ при каждой переменѣ ихъ въ продолжающемся разговорѣ» [1: 76].
Помимо функции разграничения реплик персонажей в диалоге, в «Детском чтении» тире используется с целью придания большей эмоциональной выразительности высказыванию и является «авторским» знаком. Тире указывает на паузу в прерывающейся от волнения речи говорящего:
«Сынъ. Я вижу звѣздочки, – цвѣточки. – Ахъ! какъ онѣ сверкаютъ! – и всѣ разныхъ цвѣтовъ! – Посмотрите на эту огненную звѣздочку – теперь она кажется красною – теперь синею – а вотъ и совсѣмъ сверкать перестала. Я это же видѣлъ лѣтомъ на лугу, когда солнце взойдетъ и роса выпадетъ» («Разговор между отцом и сыном о снеге») [4.1: 113-114].
Авторы журнала ставят тире также в следующих случаях.
-
- В бессоюзном и сложносочинённом предложении перед или/и после союза и , когда вторая часть предложения заключает в себе резкую смену действия или противопоставление:
« По прозбѣ Селемовой оставилъ онъ его на прежнемъ мѣстѣ, но уменьшилъ его власть – и – теперь повѣсть кончилась» («Повесть о Селеме и Ксамире») [4.1: 42]; «Пестрой цвѣтокъ качается надъ водой (…) – ахъ нѣтъ! – прiятная ошибка! – это бабочка» («Луг») [4.6: 202]; аналогично и в простом предложении с однородными сказуемыми: «О сынъ, сынъ! желчью и полынью наполнилъ ты чашу отца своего, и – выгналъ его!» («Ночная сцена») [4.16: 204].
-
- В сложноподчинённом предложении, построенном в виде периода, на месте деления его на две части:
«Часто когда все было тихо и спокойно, когда никакая печаль не грызла внутренности его, а совнѣ никакая опасность не угрожала; когда всякой цвѣтокъ былъ въ полномъ своемъ великолѣпiи, и всякой вѣтерокъ обремененъ благовонiями, – входила въ жилище его Скука съ томнымъ и мучительнымъ взоромъ, и садилась на ложе, для Покоя прiуготовленное и украшенное» («Прилежание и покой») [4.20: 9].
-
- В бессоюзном и сложносочинённом предложениях при обстоятельственных или противительных отношениях между частями:
«Иногда пойдешь ты къ пруду – какое великолѣпное зрѣлище представится тебѣ» («Переписка отца с сыном о деревенской жизни») [4.2: 14]; «Огнь сiялъ въ глазахъ моихъ – я трепеталъ отъ ревности» («Ночная сцена») [4.16: 204]; «…иногда сердце меня обманывало; я предавался страсти – и поздно уже открывались глаза мои» («Новый год. Восточная сцена») [4.17: 9]
-
- После обобщающего слова: «Мой видъ, платье мое, поступки – все пе-ремѣнилось» («Переписка отца с сыном о деревенской жизни») [4.2: 154].
Тире часто встречается на страницах журнала – с самых первых его частей, т.е. в тот период, когда Карамзин, который, как считается, ввёл этот знак в употребление [7: 54], ещё не являлся сотрудником детского издания и только начинал свою литературную деятельность. Это даёт основания полагать, что именно из кружка сотрудников новиковских изданий молодой писатель вынес подобную практику.
«Молчанку» (–) можно найти и в изданиях «Детской библиотеки» («Собрания детских повестей») Шишкова, хотя и не столь часто, как в «Детском чтении», – например, между предложениями или частями предложения (в том числе перед союзом и ) при резкой смене действий как указание на паузу при выражении сильных чувств:
«Тутъ всѣ малютки онѣмѣли передъ нею и стояли потупя въ землю глаза отъ стыда и раскаянїя. – По томъ бросились къ ней въ объятїя, и обѣщали любить другъ друга по прежнему» («О согласии») [5.2: 11]; « Бусардъ имя его; а состоянїе и чинъ? – Не больше какъ убогой лоцманъ!» («Повесть о трех добрых мужах») [5.2: 73]; «Я бросился тотчасъ къ берегу, и – о Боже! увидѣлъ любезнаго сына моего въ рукахъ бесчеловѣчныхъ разбойниковъ, отваливавшихъ уже отъ берега и распустившихъ па-русы свои!» [5.2: 97].
Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что синтаксис обоих источников отражает тенденцию сближения литературного языка с живым разговорным. В то же время в текстах «Собрания детских повестей» прослеживается большая связь автора с книжной традицией, чем в текстах «Детского чтения». Синтаксис «Детского чтения» характеризуется такими особенностями, как членение синтаксической конструкции на небольшие симметричные отрезки, определённый интонационный рисунок фразы в текстах описательного характера с лирическим началом, синтаксический параллелизм в построении сложноподчинённого предложения с повторяющимися союзами. Всё это, как и использование знака «тире» для драматизации синтаксиса на графическом уровне, будет присуще «новому слогу» Н.М. Карамзина.
Список литературы Особенности синтаксиса "Собрания детских повестей" А.С. Шишкова и журнала Н.И. Новикова "Детское чтение для сердца и разума"
- Барсов А.А. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. М.: Изд-во МГУ, 1981. 776 с.
- Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М.: Гослитиздат, 1961. 614 с.
- Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XVIII вв. М.: Высш. школа, 1982. 528 с.
- Детское чтение для сердца и разума. М.: Унив. тип. у Н. Новикова, 1785. Ч. 1. 206 с.; Ч. 2. 205 с.; Ч. 3. 205 с.; Ч. 4. 205 с.; Ч. 5. 206 с.; Ч. 6. 206 с.; 1788. Ч. 16. 207 с.; 1789. Ч. 17. 207 с.; Ч. 19. 205 с.; Ч. 19. 205 с.; Ч. 20. 206 с.
- Кампе И.Г. Детская библиотека./пер. с нем. А.С. Шишкова. СПб.: Импер. Акад. наук, 1783-1785. Ч. 1. 93 с.; Ч. 2. 117 с.
- Ковтунова В.В. Порядок слов в русском литературном языке XVIII -первой трети XIX в.: пути становления современной нормы. М.: Наука, 1969. 232 с.
- Моисеев А.И. Из истории пунктуации: молчанка -черта -чёрточка -тире//Русская речь. 1989. № 1. С. 54 -58.
- Привалова Е.П. О сотрудниках журнала «Детское чтение для сердца и разума»//XVIII век. Сб. 6. Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.-Л.: Наука, 1964. С. 258-268.
- Симанков В.И. Источники журнала «Детское чтение для сердца и разума» (1785-1789).//XVIII век. Вып. 28. М. -СПб: Альянс-Архео, 2015. С. 323-374.
- Шишков А.С. Собрание детских повестей А.Ш. Ч. 1-2. СПб.: Морск. тип., 1806-1807. Ч. 1. 268 с.; Ч. 2. 232 с.
- Campe J. H. Die vier Jahrszeiten//Kleine Kinderbibliothek. 1779. Bd. 1. S. 21-24.