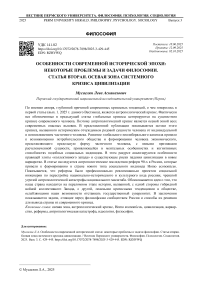Особенности современной исторической эпохи: некоторые проблемы и задачи философии. Статья вторая. Осевая зона системного кризиса цивилизации
Автор: Мусаелян Л.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (63), 2025 года.
Бесплатный доступ
По мнению автора, глубинной причиной современных кризисных тенденций, о чем говорилось в первой статье (вып. 1. 2025 г. данного Вестника), является антропологический кризис. Фактически все обозначенные в предыдущей статье глобальные кризисы центрируются на сущностном кризисе современного человека. Поэтому антропологический кризис является осевой зоной всех современных опасных вызовов. В представленной публикации показываются истоки этого кризиса, вызванного историческим отчуждением родовой сущности человека от индивидуальной и возникновением частичного человека. Развитие глобального неолиберального капитала привело к возникновению потребительского общества и формированию человека экономического, представляющего предельную форму частичного человека, с явными признаками расчеловеченной сущности, проявляющейся в ментальных особенностях и когнитивных способностях подобных социальных индивидов. В этом ракурсе анализируются особенности правящей элиты «коллективного запада» и существующие риски падения цивилизации в новое варварство. В статье исследуются антропологические последствия реформ 90-х в России, которые привели к формированию в стране нового типа социального индивида Homo economicus. Показывается, что реформы были профессионально реализованным проектом социальной инженерии по перестройке национально-исторического и культурного кода россиян, чреватой угрозой антропологической катастрофы национального масштаба. Обосновывается идея о том, что наша страна находится на переломном этапе истории, вызванной, с одной стороны гибридной войной коллективного Запада, с другой, опасными кризисными тенденциями в обществе, ослабляющими наши возможности отстаивать государственный суверенитет. В заключении показываются задачи, стоящие перед философским сообществом России и способы их решения для вывода страны из современного кризиса.
Осевая зона, антропологический кризиc, Homo economicus, цивилизация, варварство, реформы, антропологическая катастрофа, идеология, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/147252095
IDR: 147252095 | УДК: 141.82 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-3-429-445
Текст научной статьи Особенности современной исторической эпохи: некоторые проблемы и задачи философии. Статья вторая. Осевая зона системного кризиса цивилизации
Мусаелян Л.А. Особенности современной исторической эпохи: некоторые проблемы и задачи философии. Статья вторая. Осевая зона системного кризиса цивилизации // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2025. Вып. 3. С. 429–445. EDN: RZHVWQ
Received: 18.06.2025 Accepted: 12.09.2025
Тип общества и образ жизни людей, который стал формироваться почти пятьсот лет назад, пройдя циклы кризисов и подъемов, продемонстрировав триумфальные достижения в XIX– XX вв., в настоящее время исчерпал возможности своего развития. Само существование современного неолиберального глобального капитализма несет реальную угрозу всему человечеству. Сегодня для преодоления экзистенциальной угрозы требуется поиск и выбор нового вектора исторического движения челове- чества. Но это невозможно без прогнозируемого будущего, причем желаемого будущего, что предполагает существование у общества идеологии, ключевым элементом которого является социальный идеал с новыми притягательными принципами жизнеустройства и смысложизненных ценностей. Как показано автором динамической теории информации Д.С. Чернав-ским, в условиях бифуркации имеют преимущества в выживании те популяции, у которых есть идеология или цивилизационный проект, позволяющий им заглянуть в будущее [Чернав-ский Д.С., 2021].
Осевая зона системного кризиса современной цивилизации
Как представляется, выход из современного глубокого кризиса, в каком оказалось человечество, требует определения его осевой зоны, пронизывающей все кризисные тенденции, о которых говорилось ранее. Такой зоной, фактически фокусом кризиса современной цивилизации, является антропологический кризис. Он обусловлен историческим отчуждением родовой сущности человека от индивидуальной. Это в определенном смысле ключевое событие в истории человечества было вызвано общественным разделением труда, расщеплением целостной неразвитой сущности человека на индивидуальную и родовую, что сопровождалось социальной стратификацией общества, накоплением богатства на одном полюсе, и бедности — на другом. Указанные процессы приобретают наиболее выраженный характер в условиях зрелого капитализма, что, как показал Маркс, привело к формированию частичного («неполного») человека (einen Teilmenschen) [Маркс К., 1960, с. 660]. Отчуждение универсальной родовой сущности от индивидуальной фактически означало расчеловечивание сущности социальных индивидов. Этот процесс в условиях современного глобального неолиберального капитализма приобрел свою предельную форму в человеке экономическом (Homo economicus). Последний как глобальный феномен оказался результатом наложения двух тенденций, которые в единстве оказались мультипликатором глубокого антропологического кризиса цивилизации, приведшего человечество к опасной точке невозврата. Так, человек экономический есть конкретно-исторический тип частичного человека, сформировавшегося во второй половине ХХ в. в условиях потребительского общества. Поясним свою позицию. В труде человек утверждает себя как родовое социальное существо. Но в процессе труда родовая сущностная сила рабочего «высасывается» собственником средств производства, создавая (или увеличивая) капитал, который противостоит работнику как чуждая, господствующая и эксплуатирующая его сила [Маркс К., 1960, с. 660]. Отчуждение от человека его родовой сущностной силы превращает работника в «неполного», частичного человека. Поскольку в труде человек теряет свою родовую социальную сущность, он чувствует себя полноценным свободным человеком только вне труда, когда он, по аналогии с хозяином предприятия, выступает как активный субъект, покупая предмет потребления. Обладая предметом, человек удовлетворяет свои желания, и в этом самоудовлетворении он получает определенное наслаждение, которое требует продолжения, превращая потребление в само-причиняющийся процесс. Этому способствует и искусственное поддержание капиталом высокого потребительского спроса, фактически являющегося принуждением к потреблению, а также статусный характер потребления [Бодрийяр Ж., 2007]. Динамизация общественной жизни, быстрая смена потребностей превращают в конечном счете потребление в смысл жизни человека экономического. Подобное понимание смысложизненных ценностей человеком свидетельствует о деперсонализации его человеческой сущноcти. Этот процесс имеет и другую причину. Удовлетворение быстроизменяющихся потребностей требует все новых денег. Взятые в банках кредиты рано или поздно приходится возвращать. Поэтому цель человека экономического — максимально адаптироваться к изменчивому рынку труда, сохранить постоянный спрос на себя. А это становится возможным, если, как отмечал Э. Фромм, человек отказывается от собственного «Я» и руководствуется принципом «Я такой, какой я вам нужен» [Фромм Э., 2000, с. 367]. Такая самооценка рыночно ориентированного человека свидетельствует о том, что у него отсутствует «самость», внутренний стержень, определяющий чувство идентичности. Потеря идентичности есть выражение кризиса современного общества, в котором его члены «стали безликими инструментами» [Фромм Э., 2000, с. 368]. Об утрате идентичности современных американцев писал и С. Хантингтон [Хантингтон С., 2008]. Отсутствие идентичности у социальных индивидов превращает их в удобный объект манипулирования и управления. «Разум в смысле понимания, — писал Фромм, — является исключительным достоянием Homo sapiens; манипулятивный же интеллект как инструмент достижения практических целей присущ и животным, и человеку. Манипулятивный интеллект, лишенный разума, опасен, т.к. он заставляет людей действовать таким образом, что это с точки зрения разума может оказаться губительным для них» [Фромм Э., 2000, с. 369–370]. Эти идеи известного американского мыслителя-гуманиста подтверждаются современными событиями в мире. Гибридная война, которую коллективный, т.е. американизованный, Запад уже более десяти лет ведет против России, оказалась обоюдоострым оружием. Десятки тысяч санкций, введенных западными странами против России, наносят им вред не меньше, чем нашей стране. Экономика Евросоюза, лишившись дешевых энергоносителей, удобрений, сырья, заметно просела, что сказалось на уровне жизни населения. Сытая, благополучная, комфортная жизнь осталась в прошлом. Тем не менее, немалая часть населения этих стран, одурманенная русофобской пропагандой, поддерживает опасный курс своих правительств, накачивающих оружием нацистский режим Украины, опасно повышающих градус эскалации в своем противостоянии с Россией.
Особенности человека экономического как глобального феномена
Как было показано выше, Homo economicus есть конкретно-исторический тип человека частичного, сформировавшегося в условиях потребительского общества. Однако он продукт американской формы глобализации, иначе говоря, американизации планеты. Поэтому человек экономический — это американец, ставший планетарным феноменом [Берман Г.Дж., 1999, с. 383]. Какова особенность этого социального индивида?
Бытует устойчивое мнение о том, что Дж. Вашингтон сетовал на отвратительную черту своих соотечественников — страстную любовь к деньгам. Похоже, что это соответствует действительности. Вот что писали об американцах известные немецкие философы М. Хоркхаймер и Т. Адорно, длительное время жившие в США: «Здесь в Америке, — отмечали они, — не существует никакого различия между самим человеком и его экономической участью. Никто не является чем бы это ни было иным, кроме как своим состоянием, своим доходом, своим положением, своими шансами. Маска экономического положения и то, что это находится под ней, совпадает в сознании людей, включая и тех, о ком идет речь, вплоть до мельчайшей морщинки» [Хоркхаймер М., Адорно Т., 1997, с. 259]. Субстанциональная сущность человека проявляется в способе его существования, т.е. в деятельности, а она в Америке оценивается исключительно количеством денег. Известная формула Протагора гласит: «Человек — мера всех вещей». В США господствует иной принцип: «Деньги — мера всех вещей». В этой связи, как пишет Э. Фромм, в Америке является обыденностью, когда о человеке говорят: «Он стоит миллион долларов». «Сущность бытия заключается в обладании, что человек — ничто, если он ничего не имеет» [Фромм Э., 2000, с. 204]. Характеризуя ментальность американцев, Дж. Сорос отмечает, что в любой деятельности — в праве, медицине, политике — достижения людей всегда оцениваются «по количеству денег, которые они приносят, а не по реальным достоинствам» [Сорос Дж., 2001, с. 247]. «Этика успеха», господствующая в США, способствовала превращению погони за деньгами в смысл жизни человека. Стремление иметь все больше и больше, как писал Э. Фромм, неизбежно приводит к обострению классовых противоречий в обществе, «а в глобальном масштабе — войне между народами. Алчность и мир исключают друг друга» [Фромм Э., 2000, с. 196].
Если погоня за деньгами в глобальном масштабе оборачивается войной, то и сама война для человека экономического оказывается не более чем экономическим проектом. В этом ментальность англосаксов, проявившаяся ходе двух мировых войн и в их подходе к событиям на Украине. Последняя усилиями США и Великобритании превратилась в наемное государство, воюющее с Россией до последнего украинца. В прошлом эти две державы (особенно Англия) не раз безуспешно предпринимали попытки с использованием третьих стран нанести поражение России и расчленить ее. В этой связи превращение Украины в анти-Россию «отчетливо выявился реваншистской замысел англосаксонского расизма» [Скворцов Л.В., 2023, с. 135].
Гибридная война, которую коллективный Запад ведет против России, дает основание привести еще одно историческое обобщение англосаксонского стиля ведения войны. Вооруженное противостояние с противником всегда сопровождается экономической, торговой, денежной войной с ним же. Словом, применяются любые доступные средства, чтобы нанести максимальный ущерб противнику. Заметим, в настоящее время не только США и Ан- глия используют перечисленные методы борьбы с Россией, но и коллективный Запад. Иначе говоря, modus vivendi англосакса — человека экономического — стало фактически глобальным явлением. Но если эти санкции (а их было принято против России за последние годы десятки тысяч) не дают нужного эффекта, тогда прибегают к опасной военной эскалации, которая может привести к мировой катастрофе. «Надежда на то, — пишет Л.В. Скворцов, — что такое событие просто невозможно, поскольку оно противоречит здравому смыслу нормального человека, стремящегося к сохранению жизни как ценности, данной ему один-единственный раз, — призрачна» [Скворцов Л.В., 2024, с. 6]. Действительно, если учитывать когнитивные возможности не только тех людей, которые возглавляют США, но и многих руководителей стран коллективного Запада, то представление о будущем человечества не внушает оптимизма. Но дело не только в когнитивных особенностях многих представителей западной элиты, что само по себе порождает тревогу у всякого здравомыслящего человека, но и в их ментальности, которая сформировалась в эпоху неолиберального глобального капитализма. «Проблема состоит в том, — указывает Л.В. Скворцов, — что нам сегодня противостоит не нормальный западный человек, а сформированный в ХХ веке его антипод, сохраняющий внешний облик нормального человека» [Скворцов Л.В., 2023, с. 137]. Этот индивидуум есть предельно развитая форма Homo economi-cus, признающий исключительно ценность доллара и находящийся под властью доллара, т.е. глобального финансового капитала. Для человека экономического деньги — это цель жизни, а люди — лишь средство. Поэтому он спокойно приносит в жертву людей, тем более когда речь идет о населении другого государства.
Антропологический кризис дает о себе знать и в когнитивных возможностях современной западной элиты. При господстве глобального финансового капитала оказываются невостребованными политические деятели с фундаментальными знаниями, широким кругозором, способные проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Если демократические выборы — это соревнование больших денежных мешков, а не умов, то у таких людей нет шансов взойти на политический Олимп.
Если еще учесть, что бо́льшая часть электората, обладая манипулятивным интеллектом, оказывается под влиянием политтехнологов, нанятых тем же капиталом, то результат будет ожидаемым. Правда, случается и так, что электорат «ошибается» и неправильно голосует. Тогда активная работа мировых «независимых» СМИ во всех «демократических» странах, подконтрольных глобальному капиталу обосновывают неприемлемость результатов и необходимость проведения новых выборов. Если и это не проходит, осуществляется цветная революция и «демократическим» путем к власти приводится нужная Западу креатура, готовая вопреки национальным интересам безропотно выполнять директивы мирового гегемона. Словом, появление в большинстве западных стран политических деятелей с сомнительными когнитивными возможностями — это закономерный результат формирования монопольной власти неолиберального капитала, стремящегося приватизировать историю человечества. А для приватизированной истории достаточен лишь один актор. И здесь не важно, как фамилия человека, которому поручено выполнять роль мирового актора, и какой он по счету президент в истории страны, претендующего на роль мирового гегемона. «Глобальная власть финансового капитала — это становление исторической власти доллара, в котором человек играет роль слуги, роль материала, не значащего истины самосознания. Он обречен на незнание истины и поэтому может свободно исчезнуть, утратить смысл своего бытия, ради сохранения смысла власти доллара. Это край мощи безнравственного духа» [Скворцов Л.В., 2023, с. 125–126].
Антропологический кризис как угроза существованию современной цивилизации
Вышеизложенное дает основание сделать вывод, что мы являемся свидетелями глубочайшего антропологического кризиса, который ставит под вопрос само существование человеческой цивилизации. Учитывая глубину и последствия указанного кризиса, было бы правильно определить происходящее вслед за М. Мамардашвили антропологической катастрофой. Среди кризисных тенденций конца ХХ в. известный советский философ обратил внимание на изменения, которые происходят с «человеческой материей». Они приводят к нарушению законов, по которым устроена человеческая цивилизация, разрушению самой человеческой цивилизации. По мнению Мамардашвили, антропологическая катастрофа может быть прототипом иных возможных катастроф [Мамардашвили М.К., 1992, с. 107]. Собственно, о чем идет речь. Переход человечества от дикости и варварства к цивилизации был спасением человеческого рода, ибо это был скачок от социальной организации, основанной на «пещерном праве силы», к обществу, опирающегося на силу права. Возникновение мирового гегемона, практикующего право силы с демонстративным игнорированием международного права, фактически означает возврат к варварству. Но в арсенале мирового гегемона не дубинки, и даже не мечи, луки и стрелы, а оружие массового поражения, применение которого может привести к гибели человеческой цивилизации. «А ведь суть и замысел цивилизации, — отмечала Н.В. Мотрошилова, — состояли именно в выживании человеческого рода, в сохранении человечности и непрерывности его истории» (курсив автора. — Л.М.) [Мотрошилова Н.В., 2010, с. 89]. В этой связи философ заключает, что «тип цивилизации, не способный устранить крайние милитаристские, террористические, криминальные и другие насильственные формы господства и подчинения, исторически изживает себя» [Мотрошилова Н.В., 2010, с. 88–89]. Цитируемая работа Н.В. Мотрошиловой была написана более пятнадцати лет назад. Ситуация с тех пор в мире если и изменилась, то в худшую сторону. Но похоже, человечество еще не осознало, что политика с позиции силы глобального капитала может переместить цивилизацию не в эпоху варварства, а на вселенское кладбище, как это предупреждал И. Кант. Таковы последствия антропологического кризиса конца ХХ – начала XXI вв. Анализ антропологического кризиса был бы неполным, если не коснуться его проявления в нашей стране.
Реформы 90-х гг. в Россиии их антропологические последствия
О событиях, произошедших в России после развала Советского Союза, написано много, в том числе и автором данных строк [Мусаелян Л.А., 2002, 2014, 2016, 2018]. Это избавляет нас от необходимости подробного описания процессов, происходящих в стране в начале
90-х гг. прошлого века. Сегодня, после прошествия стольких лет, когда очень многое (но все же не все) стало известно, можно сказать, что в России произошла цветная революция со всеми типичными для нее признаками: принципиальная несговорчивость акторов революции, целенаправленные действия на обострение конфронтации с политическими оппонентами, стрельбой неизвестных по людям (с крыши американского посольства!), провокационные призывы и действия безответственных людей, усиливающие хаос и неуправляемость государства, и т.д. Новая российская элита при мощной поддержке вечных «друзей» России, под грохот танковых орудий выводила страну из тоталитаризма в мир цивилизации и демократии. Реформы начались с громких публичных заявлений о необходимости деидеологизации и деполитизации экономики. Но, в сущности, деятельность реформаторов была мотивирована идеологически и политически. Для них неолиберальная идеология была своеобразным «священным писанием», руководствуясь которым они целенаправленно в короткий срок осуществили деиндустриализацию страны. В результате реформ десятки миллионов людей лишились средств существования. Картина была бы неполной, если не сказать о галопирующей инфляции, алкоголизации населения, небывалого роста преступности и наркомании, возникновении беспризорности и других социальных болезней, характерных для беднейших стран Латинской Америки и Африки. В результате произошло резкое падение рождаемости и увеличение смертности. Пересечение двух этих тенденций получило название в аналитике «русский крест», символизирующий явно выраженную тенденцию депопуляции населения страны. Указанная тенденция свидетельствовала не об антропологическом кризисе, а об антропологической катастрофе, последствия которой дают о себе знать и сегодня.
Реформы способствовали возникновению в стране социальной реальности, существовавшей в Европе в середине ХIХ в. некогда описанная Марксом. «…Все, на что люди привыкли смотреть как неотчуждаемое, сделалось предметом обмена и торговли и стало отчуждаемым. Это время, когда даже то, что дотоле передавалось, но никогда не обменивалось, дарилось, но никогда не покупалось, — доброде- тель, любовь, убеждение, знание, совесть и т.д., — когда все, наконец стало предметом торговли. Это время всеобщей коррупции, всеобщей продажности…» [Маркс К., 1955, с. 73]. Жажда к наживе, к деньгам все более становится мотивом поведения людей. Реформы фактически были продуманным проектом социальной инженерии по формированию новых типов социальных индивидов, отличающихся не только от советского человека, но и от россиянина, имеющего немало общих с советскими людьми признаков. Возникает резонный вопрос: какие мотивы были определяющими в деятельности российских реформаторов — идеологические (неолиберализм) или политические? Представляется, что неолиберальная идеология и опирающиеся на нее принципы рыночного фундаментализма были инструментом решения политических задач, поставленных перед реформаторами их западными кураторами. Целью Запада и прежде всего США, организовавших в России цветную революцию при помощи либералов для того, чтобы выбить правопреемницу своего геополитического противника из ядра мировой истории на ее периферию, превратив страну в источник дешевых энергоресурсов, сырья, рабочей силы. К концу 90-х Россия фактически потеряла финансовый, технологический и даже политический суверенитет. Хорошо известно, что в период первого президента демократической России кандидатуры на ключевые должности в правительстве страны согласовывались с американским руководством. И позже, в тучные на нефтедоллары нулевые годы власти России, находясь в плену либеральной идеологии, не предпринимали существенных мер по модернизации устаревших основных фондов промышленности, восстановлению экономики, технического, технологического, научного суверенитета. Между тем, еще в 1999 г. в большой аналитической статье в «Независимой газете» о тяжелой ситуации в российской экономике и необходимости ее модернизации писал В.В. Путин — в то время председатель правительства и кандидат в президенты [Путин В.В., 1999]. Но почему, став президентом, он забыл о своей предвыборной публикации и оставил на ключевых постах либералов, остается только догадываться. В способах управления страной этими людьми чувствовалось ментальность человека экономиче- ского. «Зачем производить — купим». Колоссальные деньги, вырученные от продажи энергоносителей и сырья, выводились на Запад, большей частью в США, финансируя экономику этих стран. К чему привела такая политика, показывают события последних 3-х лет после объявления СВО, когда стало очевидно, что без экономического, финансового, технологического, научного, образовательного, цифрового суверенитета существование России как государства невозможно.
В настоящее время у нас в стране в тренде идея патриотизма. Можно ли реформаторов и их убежденных сторонников, остававшихся в течение многих лет у власти, называть патриотами России? По своей ментальности это тот же тип социальных индивидов, которые обыкновенно называются Homo economicus. В условиях монополярного мира человек экономический, как было показано, — это американец, ставший глобальным феноменом. В лучшем случае это космополит. Так может ли такой тип социального индивида быть патриотом России? Вопрос риторический.
Начнем с первого президента демократической России. Ради власти он сознательно разрушал государство, которое подняло его на верхние ступени политической пирамиды. Подписав Беловежские соглашения (08.12.1991), означавшие фактически государственный переворот, он тут же доложил об этом Дж. Бушу. Можно ли считать его патриотом России, услышав произнесенную им речь в конгрессе США (17.07.1992). «Мир может вздохнуть спокойно, — говорил Б. Ельцин в своем выступлении, — коммунистический идол, который сеял на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!» (курсив автора. — Л.М.) [Плебейство духа…, 2017]. В заключении бывший коммунист и атеист просит бога, чтобы он хранил Америку. Выступление Б. Ельцина можно характеризовать как отчет убежденного антикоммуниста перед политической элитой США о проделанной работе. Поэтому ответ на поставленный выше вопрос, что было определяющим у реформаторов, идеологические или политические мотивы в осуществлении преобразова- ний, очевиден. Возникает вопрос, как мог высокопоставленный партийный работник в короткий отрезок времени превратиться в зоологического антикоммуниста, дающего клятву верности Америке? Политик-популист, который хочет понравиться электорату или вышестоящему начальству, от которого зависит его продвижение по карьерной лестнице вверх, ведет себя так же, как Homo economicus. Их ментальность в значительной степени совпадает. Они доказывают (в одном случае народу или членам партии, в другом — работодателю на рынке), что перед ними тот человек, какой им сегодня нужен. Как свидетельствует политолог Д. Саймс, который присутствовал на встрече Б. Ельцина с американскими политиками в период его первой поездки в США, будущий президент России очень хотел понравиться американцам и говорил то, что они хотели услышать. Советский Союз, в общем-то, не нужен, рассуждал гость, надо дать возможность республикам выйти из состава Союза. Услышанное, вспоминал журналист, вызвало интерес у влиятельных политиков, а сам гость — определенные симпатии [Рудаков В.Н., 2022]. Словом, Б. Ельцин вел себя как типичный Homo eco-nomicus, убеждая американцев: «Я тот, кто вам нужен». По воспоминаниям того же Д. Саймса, он был поражен тем, до какой степени российский политик был наивен в вопросах международных отношений, да и по всем остальным проблемам он имел примитивные представления [Рудаков В.Н., 2022]. Метаморфозы, происшедшие с Б.Н. Ельциным, не являются уникальным явлением, это симптом антропологического кризиса советской элиты, немалая часть которой не имела внутренних глубоких убеждений, не разделяла официально артикулируемые смысложизненные ценности, не верила в светлые идеалы, которые отстаивали их отцы и деды. Их жизнь была постоянной коллизией между необходимостью «казаться» («демонстративным поведением», свойственным Homo economicus) и плохо скрываемым желанием «быть». Оно выражало экзистенциальное противоречие между родовой и индивидуальной сущностью человека. И когда начались реформы у немалой части советской элиты (особенно экономической), победил индивидуальный, «шкурный» интерес. Элита, как пишет Председатель КС РФ В. Зорькин, «поня- ла, что если она примет новый строй, она может уверенно сделать своей достаточно значительную часть бывшей советской собственности. Что и случилось. А потому она не задействовала свой ресурс для защиты советского строя» [Зорькин В.Д., 2025]. В этом одна из причин относительно быстрого и радикального преобразования социалистического базиса, а затем и других сфер общественной жизни. В соответствии с ментальностью и когнитивными возможностями будущего президента России подбиралась и его команда. Много позже, Дж. Стиглиц в своей фундаментальной работе, анализируя реформы, которые проводились в России, напишет, что США сделали ставку на лидеров России, которые оказались некомпетентны и коррумпированы одновременно [Стиглиц Дж.Ю., 2003, с. 224]. Эти особенности новой элиты России дают о себе знать и в настоящее время [Зорькин В.Д., 2025].
Реформы как проект социальной инженерии
Реформаторы не достигли бы своей цели, и мы жили бы в другом обществе, если бы они, в соответствии со своими заявлениями вести Россию по пути цивилизации, не цивилизировали россиянина, т.е. все еще советского человека, по своему образу и подобию. Определенные изменения в сознании советских людей стали происходить уже в эпоху перестройки, что было подмечено М. Мамардашвили. Этим изменениям реформаторы придали определенную направленность и ускорение. Помимо экономики (собственности), предметом их пристального внимания была молодежь. По мнению реформаторов, наука и образование, доставшиеся России от Советского Союза, были избыточны. Поэтому они, руководствуясь перенятой идеологией, минимизировали финансирование этих важных для развития страны сфер, переводя их в состояние комы. Одновременно изменилось и название ведомства, управляющего системой образования. Оно стало именоваться министерством образования. Даже в царской России оно называлось министерством народного просвещения. Это изменение в названии ведомства не было чисто семантическим. Оно отражало сущность политики новых властей демократической России и их отношение к народу. Было упразднено обязательное полное одиннадцатилетнее образование. Обязательным стало базо- вое девятилетнее. Последовавшая затем череда реформ в системе образования и науки по западным лекалам, резко снизивших качество образования и интеллектуальный потенциал страны, указывала на то, что России уготовлена роль источника дешевых энергоносителей и сырья для западных экономик. Экономическая деградация, ликвидация научно-исследовательских институтов, работающих на оборону (так называемых «почтовых ящиков»), резкое сокращение финансирования образования, науки, безработица, вызвали массовый отток «мозгов» из страны, продолжающийся по сегодняшний день. Все это привело к деинтеллектуализации России, дающей основание говорить об антропологической катастрофе.
Значимым негативным результатом реформ стала атомизация общества и изменение сознания людей, и прежде всего — молодежи. Происшедшее, как уже отмечалось, можно определить как целенаправленную социальную инженерию по формированию нового типа социального индивида с социальными качествами Homo economicus, которые противоречили культурному коду и ментальности россиян. В глобальной стратегии США по американизации планеты важнейшая роль отводилась неолиберальной идеологии, которая была превращена в религию, а экономические вузы — в своеобразных «заменителей богословских факультетов» [Макбрайд У., 2003, c. 85].
На взгляд автора, к числу таких экономических вузов в России, оказавших заметное влияние на ход реформ, трансформацию общества и общественного сознания, следует, в первую очередь, отнести Высшую школу экономики, созданную по распоряжению Правительства в 1992 г. Задачей Высшей школы экономики, поставленной новой властью перед ее руководством, было «формирование нового корпуса высококвалифицированных профессионалов в области экономики, создание кадровой базы для эффективной рыночной экономики и демократического государства» [Кузьминов Я.И., 2006, с. 4]. По признанию Я.И. Кузьминова, вуз создавался с «чистого листа», не имея «балласта» (вероятно, автор имеет в виду советскую систему образования), и опирался на принципы мировой экономической науки [Кузьминов Я.И., 2006]. В результате Высшая школа экономики достаточно быстро превратилась в
«конвейер по массовому производству идеологически выдержанных кадров для беспощадного проведения либеральных реформ» [Делягин М.Г., 2021]. Впрочем, подробный анализ как роли Высшей школы экономики, так и роли системы высшего образования в целом в осуществлении либеральных реформ в России как проекта управляемой извне социальной инженерии представляет собой предмет отдельного исследования и публикации.
Формирование потребительского общества и человека экономического в России
Для объективности необходимо отметить, что экономические реформы, в реализации которых активное участие принимала ГУ ВШЭ, через 10–15 лет после их начала привели к наполнению рынка страны товарами, правда, по большей части импортными. Ушли в прошлое унизительные для человеческого достоинства длительные очереди конца в 80-х гг., пустые полки начала 90-х. Россия стала неотъемлемой частью мирового капиталистического рынка. С середины 10-х гг. XXI в. в стране сформировалось потребительское общество со всеми описанными ранее признаками. Гедонизм, ригорический индивидуализм и эгоизм элиминировали из общественной жизни семейноцентричные ценности и коллективистские интересы. Это не могло не сказаться на рождаемости. Усилилась опасная тенденция депопуляции населения. Необузданный дух гедонизма способствовал превращению денег в универсальную ценность, а человека — в средство. В криминальных сводках стало обыденностью убийство друзей, родственников ради денег и собственности. В годы Великой отечественной войны молодежь, даже школьного возраста, в партизанских отрядах участвовала в борьбе с врагом. Многие из них за проявленную отвагу и героизм получили высокие государственные награды. В настоящее время, когда Россия находится в состоянии войны, молодые люди, в том числе и школьники, мотивированные возможностью получения денег от спецслужб Украины, совершают диверсии на критически важных военных объектах, убивают российских военнослужащих, участвовавших в СВО. Социальная реальность свидетельствует об отчуждении индивидуальной сущности от родовой. Российский вариант Homo economicus мало чем отличается от свое- го западного аналога. Это и понятно, ведь либеральные реформы в России проводились по западным лекалам. И там, и здесь сформировавшийся Homo economicus есть крайняя форма отчуждения индивидуальной сущности человека от родовой. Но в России есть все же свои особенности. Раскол общества, возникший после проведения экономических реформ, усилился после воссоединения Крыма с Россией, и особенно с началом СВО. Бо́льшая часть народа с энтузиазмом восприняла воссоединение Крыма и с пониманием отнеслась к решению президента о СВО. Приверженцы западных ценностей крайне негативно отнеслись к этим политическим действиям властей. Многие из критиков политики России покинули страну, но бо́льшая часть таких граждан осталась в России. Они не участвуют в СВО ни физически, ни финансово, ни ментально. Они выжидают. Как представляется, для России переломный этап в настоящее время заключается не только в защите своего суверенитета и государственной целостности, но и в преодолении усилившегося в последние годы цивилизационного раскола общества, который в определенной мере совпадает с социально-экономическим. Понятно, что победа нашей страны в противостоянии с коллективным Западом во многом зависит от единства нашего народа. Но само окончательное преодоление раскола общества возможно при преодолении антропологического кризиса. Возможно ли преодоление указанного кризиса при существующих в стране реалиях и установившихся в результате реформ смысложизненных ценностях? Нам представляется, что оснований для оптимизма пока нет.
О задачах философии
Как свидетельствует история, радикальные перемены в обществе происходят тогда, когда люди осознавали их необходимость и целенаправленно их осуществляли. Ранее было показано, что ключевую роль в возникновении такого целеполагания и смены исторических эпох играет философия. Однако исторические тренды в мире определяются элитами ведущих держав ядра мировой истории, завязанных экономическими интересами с глобальными финансовыми и финансово-промышленными компаниями. Нет оснований полагать, что они прибегнут к философской оптике при анализе причин возникших угроз человечеству и придут к пониманию необходимости пересмотра проводимого ими политического курса. Что касается России, то здесь негативное отношение к философии как идеологии тоталитарного государства обозначилось у политической элиты сразу после смены социально-политического строя в стране. Демонстративное освобождение от марксистско-ленинской идеологии сопровождалось «недооценкой или третированием научной теории вообще, что в сочетании с реформами системы образования обернулось резким снижением духовной культуры общества» [Малер А.М., 2011, с. 157]. Искусственно созданный вакуум научно-теоретической мысли был необходим для быстрого внедрения в общественное сознание неолиберальной религии и некритического заимствования западных моделей социально-политической системы. Со временем резко негативная коннотация философии властью сменилась демонстративным безразличием к ней. Престиж философа и философии в стране все еще крайне низок. Власти не любят философию, поскольку они считают ее, в отличие от религии, «разрушительной для внутреннего спокойствия и устойчивости общества. Соответственно опасной для них является и деятельность философов, особенно в той ее части, в которой она имеет своим предметом вопрос справедливого и достойного жизнеустройства» [Гусейнов А.А., 2015, с. 77]. В свете изложенного вполне объяснима постоянная тенденция в постсоветские годы сокращения количества часов, выделяемых в вузах на изучение философии. Учитывая, что запрос в обществе на философию возник при переходе человечества из варварства в эпоху цивилизации, в аналитике подобное отношение власти к философии не без оснований характеризуют как еще один симптом возвращения человечества к варварству [Малер А.М., 2011, с. 157].
В прошлом античные мыслители считали идеальным государство, в котором цари философствуют, а философы царствуют. История свидетельствует о том, что попытки претворить этот принцип на практике не был результативным, а для философов — далеко не безопасным. Учитывая подобный опыт, Кант высказывался против того, чтобы философы становились королями, поскольку «обладание властью неизбежно извращает свободное суждение ра- зума. Но короли, — полагал немецкий мыслитель, — или самодержавные (самоуправляющиеся по законам равенства) народы не должны допустить, чтобы исчез или умолк класс философов, а должны дать ему возможность выступать публично; что необходимо и тем, и другим для внесения ясности в их деятельность» [Кант И., 1966, с. 289]. Близкие идеи находим и у М. Хайдеггера. По его мнению, эллины понимали, что философы далеки от мирской жизни, и именно поэтому «для сущностно человеческой природы мыслители являются самыми необходимыми людьми» [Хайдеггер М., 2009, c. 219]. Востребованность философа в обществе обусловлена тем, что философия в цивилизованном обществе есть способ его саморефлексии. Возможность философа свободно публично высказываться является условием влияния на общество и (негласно) на власть. Так мыслитель, воздействуя на сознание людей, вносит свою лепту в совершенствование общества [Козлова Н.Ю., 2022, с. 190]. В этой связи представляется спорной точка зрения А.А. Гусейнова о том, что «философ философствует для себя. И теории создает, и книги пишет для себя» [Гусейнов А.А., 2015, с. 81]. Исторический пример с Сократом, который приводит автор, как и многие другие эпизоды из истории мировой философии, свидетельствует об обратном. Скажем, портной, если бы шил одежду исключительно для себя, не был бы портным, в существовании которого заинтересовано общество. То же самое можно сказать о деятельности сапожника, врача, писателя и, конечно, философа. Последний пишет книгу, статью, доклад и надеется на то, что его работа будет прочитана, идеи и мысли поняты, оценены, и не только коллегами по цеху. Он пишет работу, надеясь, что станет для читателя доверительным собеседником. Именно так философ может формировать иное «понимание жизни, создавать другой порядок ценностей, нежели тот, который практикуют обыватели, насаждают власти» [Гусейнов А.А., 2015, с. 81]. По нашему убеждению, публичная деятельность есть призвание философа. Для того, чтобы работы философов оказывали влияние на общественное сознание, способствовали формированию иных смысложизненных ценностей, философскому сообществу страны нужно выполнить два условия. Во-первых, в работах фило- софов должно быть как можно меньше «философского тумана», отпугивающего даже «философски подкованного» читателя. Об этом приходится писать, поскольку в последние годы публикации такого рода, увы, не редкость. По авторитетному мнению академика Д.С. Лихачева, в научной работе читатель должен замечать мысль, а не язык, который в силу своей специфики делает невозможным понять идеи автора [Лихачев Д.С., 2017, c. 356].
Во-вторых, чтобы превратить читателя в заинтересованного собеседника философа и повысить его влияние на общественную жизнь, необходимо, чтобы в оптике философского анализа были не абстрактные, зачастую далекие от жизни проблемы, а социальная реальность, в которой пребывает человек. Уместно здесь вспомнить Платона, который в своей теории идеального государства предписывал философам поочередно «спускаться в обитель прочих людей и привыкать созерцать темные стороны жизни» [Платон, 1999, c. 363]. Иначе, одна из задач отечественной философии осуществить социальный поворот к той повседневности, в которой существует человек. В контексте анализируемой проблемы речь должна идти о повседневности, в которой происходит расчеловечивание человеческой сущности, сохраняются, углубляются и множатся формы проявления противоречия между родовой и индивидуальной сущностью человека. Это, как уже отмечалось, осевая зона кризисных тенденций, определяющих новое опасное падение человечества в варварство. Но учитывая состояние отечественной философии, возникает вопрос, какая из существующих концепций обладает эвристическими возможностями решения этой задачи. Здесь представляется необходимым согласиться с М. Хайдеггером, который делает выбор, как это ни парадоксально, в пользу марксистской философии. «Поскольку Маркс, осмысливая отчуждение, проникает в сущностное измерение истории, постольку марксистский взгляд на историю превосходит прошлую историографию» [Хайдеггер М., 1988, c. 336]. Согласно немецкому мыслителю, ни феноменология, ни экзистенциализм, добавим еще от себя, ни многие другие современные философские течения «не признают существенности исторического аспекта в бытии, они не могут дать теоретическо- го объяснения отчуждения, проявляющегося в повседневном бытии человека и служить методологией преодоления отчуждения» [Хайдеггер М., 1988, c. 336]. «В основе марксистского подхода, — пишет Л.Г. Фишман, — лежит представление о наиболее человечном, т.е. неотчужденном бытии, возможном в конкретный исторический период. При такой перспективе более важно деление практик не на прогрессивные и реакционные, а на отчуждающие и способствующие преодолению отчуждения» [Фишман Л.Г., 2024, с. 15]. Марксистская философия может быть методологией выхода из существующего глубокого кризиса, поскольку она позволяет увидеть перспективу развития человечества и мотивировать массы на созидание желаемого справедливого будущего. Вся история человечества есть поиск созидания такого общества. Этот поиск шел в споре между моделью общества, основанной на частном или корпоративном (общем) интересе. В марксовском видении перспектив человечества эти альтернативы снимаются и создаются условия для преодоления отчуждения, поскольку речь идет о ассоциации людей, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» [Маркс К., Энгельс Ф., 1955, с. 447]. В этой связи следует согласиться с Л.Г. Фишманом, что неотчуждающая социальная практика требует возврата к реализации идеи социализма. Важнейшим в этой идее является принцип социальной справедливости, наиболее востребованная по социологическим опросам потребность россиян. В последние годы в аналитике все чаще встречаются идеи о востребованности современной цивилизацией новой левой идеологии [Валлерстайн И., 2003; Малинецкий Г.Г., 2020]. Понятно, что после 30 лет активной антимарксистской пропаганды, очернения всего опыта социализма эта идея вызовет негативную реакцию у некоторых читателей, особенно молодых. Но в науке важны не эмоции, а исторические факты и понимание общественных закономерностей. Первый глобальный кризис капитализма в начале прошлого века обернулся мировой войной, а затем и революцией в России, Германии, Венгрии. Большевикам, в отличие от европейских коммунистов, удалось не только сохранить завоевания революции, но и укрепить их. Второй глобальный кризис капитализма привел к Вто- рой мировой войне. Благодаря победе Советского Союза в Великой Отечественной войне социализм стал мировой системой. Когда пишутся эти строки, наш народ отмечает восьмидесятилетие победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Россия безусловно является правопреемницей СССР. Но все же думается, что это победа другого государства, другого народа, другого человека, о чем почему-то умалчивает современная российская элита. Хотелось бы в этой связи воспроизвести некоторые мысли из статьи Секретаря Совета Безопасности России С. Шойгу, опубликованные в «Российской газете» под симптоматичным названием «Это наша победа». «В смертельной схватке, — пишет автор, — сошлись не просто Советский Союз и Третий рейх с его сателлитами, а общественные модели и идеологии» [Шойгу С.К., 2025]. Среди факторов, обеспечивших победу СССР в войне, автор называет преимущества экономической системы, мобилизационные возможности, моральнопсихологический настрой советских людей. По мнению Секретаря Совета Безопасности России, народный «подвиг в годы Великой Отечественной войны был отнюдь не порывом фанатиков, ослепленных идеологией. Он стал проявлением настоящего патриотизма советского народа и результатом последовательного и целенаправленного патриотического воспитания граждан нашей общей родины. Именно здесь в сфере сознания, нужно искать источники массовой самоотверженности, мужества стойкости советских людей на фронте и в тылу» [Шойгу С., 2025]. И еще чрезвычайно важное соображение автора. «Победа была бы невозможна без единства власти и общества, без веры народа в защищаемые идеалы и без духовности» [Шойгу С., 2025].
Вера в высокие социальные идеалы и единство власти и общества были не только фактором великой победы, но и ускоренного послевоенного развития страны. Несмотря на колоссальные материальные и людские потери (около 50 млн чел.) [Шойгу С., 2025], через 12 лет после опустошительной войны Советский Союз первым в мире начал освоение космоса. Сравнивая 30-летнее послевоенное развитие Советского Союза с результатами тридцатилетней истории постсоветской России, выводы напрашиваются сами собой. 4-й год идет СВО. Не- смотря на героизм военнослужащих российской армии, до достижения объявленных целей СВО, похоже, еще далеко. Сравним результаты боевых действий Красной армии, которая воевала не только с вооруженными силами Германии, но и армиями большинства европейских стран, — разница очевидна. Два разных государства, две разные системы, разные идеологии и смысложизненные ценности людей, разные возможности противостояния с варварством и глобальным капиталом. Нюрнбергский процесс был первым шагом возвращения человечества из варварства к цивилизации. В последующем, как отмечалось в первой статье, значимый вклад в восстановлении цивилизованных отношений между народами и понимании человека и человеческой жизни как высшей ценности внесла философия. Но эта задача не была бы успешно решена без существования Советского Союза и возникших благодаря СССР других социалистических стран. Советский Союз способствовал освобождению народов от колониального ига и оказывал им всестороннюю помощь в самостоятельном свободном выборе исторического пути. Заметим, что в настоящее время именно эти страны оказали России моральную и политическую поддержку и блокировали намерения коллективного Запада изолировать нашу страну, превратив ее в политического изгоя.
Современный третий глобальный кризис капитализма чреват опасностью мировой катастрофы или как минимум усилением политической реакции, возникновением фашистских и неонацистских режимов и их инструментализации глобальным капиталом для сохранения своей монопольной власти. Победить стратегически глобальный либеральный капитализм, имея такую же экономическую систему, такие же смысложизненные ценности, но более слабые экономические, технологические возможности, людские, природные, военные ресурсы практически невозможно. Внедрение в либеральное общественное сознание консервативных идей, по большей части представляющих мировоззрение средневековья, может иметь ситуативный положительный результат, но это не обеспечит стратегическое преимущество в перспективе. Нельзя двигаться вперед, повернув голову назад, — результат будет предсказуем. В этих условиях задача философского сообще- ства — обоснование новой левой идеологии, новых смысложизненных ценностей, новых притягательных идеалов, мотивирующих людей на изменение существующей социальной реальности. Согласно Хайдеггеру, методология Маркса, исследующая отчуждение «бытийноисторически», позволяет разрешить еще одну проблему — преодолеть «бездомность современного человека» [Хайдеггер М., 1988, c. 336– 337], что, как отмечалось ранее, является выражением кризиса современной цивилизации. В самом деле, что есть Homo economicus? Он продукт неолиберальной глобализации, и как таковой — это глобальный феномен, космополит, лишенный своих этнических и цивилизационных корней. Марксистская философия, являясь методологией восстановления расчелове-ченной человеческой сущности, дает возможность преодолеть указанную бездомность и осуществить возврат к этнической и цивилизационной идентичности, без чего не может быть полноценного человека, осознающего собственную самость, не может быть патриота и патриотизма как значимого для государства социального явления. Фактически речь идет о гуманистической функции философии как важного средства социальной инженерии. Выполнение этой задачи вряд ли будет успешным, если не будет изменено преподавание философии в вузе. Ранее было показано, что реформы в экономике 90-х гг. были сопряжены с реформами в системе образования. Дегуманитаризация образования путем сокращения часов на философию и гуманитарные дисциплины помимо экономических мотивов преследовала еще формирование крайней формы частичного человека — человека экономического, с деформированными социальными ценностями и установками, предсказуемого в своих интересах и поведении. Вызовы, с которыми сталкивается наша страна, требуют фундаментализации не только естественнонаучного и технического, но и социально-гуманитарного образования студентов. Ядром социально-гуманитарного образования в вузах, как подмечено в аналитике, должна быть философия. Добротное философское мировоззрение позволяет выпускнику вуза «не только верно понимать и оценивать происходящее вокруг нас, но и чувствовать свою значимость и, соответственно, уверенность в жизни и, в своих жизненных позициях. Осо- бенно в том, что касается добра и зла» [Эскин-даров М.А., Пляйс Я.А., 2025]. Словом, фунда-ментализация социально-гуманитарного образования является необходимым условием формирования целостно развитой человеческой личности и преодоления современных кризисных тенденций в нашем обществе. А это предполагает не только значительное увеличение часов, выделяемых на изучение философии в вузах, но и изменение методов ее преподавания [Мусаелян Л.А., 2022a, 2022b].