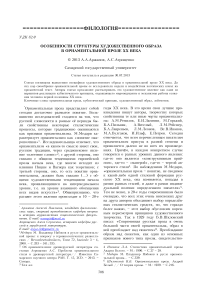Особенности структуры художественного образа в орнаментальной прозе ХХ века
Автор: Аржанов Алексей Павлович, Атрощенко Алеся Сергеевна
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2-3 т.15, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению специфики художественного образа в орнаментальной прозе ХХ века. До сих пор своеобразие орнаментальной прозы ее исследователи видели в воздействии поэтических начал на прозаический текст. Авторы статьи предлагают рассматривать это художественное явление как один из вариантов реализации кубистического принципа, отражающего мироощущение и механизмы работы сознания человека первой половины ХХ века.
Орнаментальная проза, кубистический принцип, художественный образ, лейтмотив
Короткий адрес: https://sciup.org/148101518
IDR: 148101518 | УДК: 82.0
Текст научной статьи Особенности структуры художественного образа в орнаментальной прозе ХХ века
Орнаментальная проза представляет собой сегодня достаточно размытое понятие. Большинство исследователей сходятся на том, что русской словесности в разные её периоды были свойственны некоторые стилистические процессы, которые традиционно оцениваются как признаки орнаментализма. М.Медари характеризует орнаментализм как «понятие мак-ропоэтики»1. Исследовательница отмечает, что орнаментализм «в каком-то смысле имеет свои, русские традиции, через средневековое явление «плетение словес»2; с другой стороны, оно связано с общими тенденциями европейской прозы начала века, где многое исходит из влияния Ницше и Вагнера как теоретиков; с третьей стороны, оно, то есть понятие орнаментализма, должно быть связано (…) с общими художественными тенденциями начала века, проявляющимися на интермедиальном уровне, т.е. на уровне взаимного обогащения всех видов искусств»3. Общепризнанно, что расцвет этого явления происходит в 10 – 20-е
годы ХХ века. В это время свои лучшие произведения пишут авторы, творчеству которых свойственны те или иные черты орнаментализма: А.М.Ремизов, Е.И.Замятин, М.Горький, Б.А.Пильняк, А.Веселый, Л.М.Рейснер, Б.А.Лавреньев, Л.М.Леонов, Вс.В.Иванов, М.А.Булгаков, И.Ильф, Е.Петров. Сегодня отмечается, что всем перечисленным писателям орнаментализм присущ в разной степени и проявляется далеко не во всех их произведениях. Причём, в каждом конкретном случае говорится о разных уровнях данного явления: где-то оно является «конструктивным приёмом», где-то – «манерой», где-то – чертой авторского стиля4. По наблюдениям М.Медари, «орнаментальная проза – понятие, не сводимое к какой-либо одной стилевой формации русского ХХ века, она изменяется, попадая в рамки разных стилей, и даже в рамки индивидуальной поэтики определенного писателя»5. Тем не менее, в 20-е годы современникам было очевидно, что всех этих очень непохожих друг на друга авторов объединяет выбор определённых стилистических средств, но, что гораздо более важно, – этот выбор обусловлен коренным пересмотром принципов художественного творчества. Так в 1929 году Б.В.Шкловский писал: «Современная русская проза в очень большой части своей орнаментальна, образ в ней преобладает над сюжетом»6. Преобладание образа над сюжетом, как один из основных признаков нового типа прозы, свидетельство- вал о принципиально иной художественной ситуации по отношению к миметическому искусству XIX в. В начале ХХ в. для части авторов становится важным не рассказать историю, но зафиксировать состояние постоянно меняющегося, хаотичного мира новыми средствами, обновив художественный язык так, чтобы вернуть искусству находящуюся в кризисе перформативность высказывания – «его способность создавать, являть реальность, его непосредственную убедительность, переживаемую читателем как жизненность, не искусственность, подлинность, органичность (в том числе, в том случае, когда текст переживается как сконструированный, «сделанный», ирони-ческий)»7. В новой исторической ситуации правдоподобие представлялось более чем сомнительной категорией, т.к. реальность сама являлась материалом для самых неожиданных трансформаций. «Эйнштейном – сорваны с якорей самое пространство и время. И искусство, выросшее из этой, сегодняшней, реальности – разве может не быть фантастическим, похожим на сон?»8, – писал об этом Е.Замятин. В этой ситуации художественный образ, по мнению Замятина, должен был строиться по иным принципам: необходимо учитывать влияние друг на друга микро- и макрокосма, увидеть связи разрозненных вещей, собрать их в единый образ, опираясь на ассоциации и на прозрение их сути. На практике это означало поиск новых способов изображения мира, когда «реализм – нереален», а художественный образ принципиально субъективен. Если «в самом общем плане понятие аутентичности предполагает, что высказывание носит не формальный, клишированный, искусственный характер, а выражает реальный опыт и реальную волю человека»9, то феномен орнаментализма видится нам в том, что эффекта аутентичности он стремится достичь через создание гиперискусственного высказывания, интенсивно работая со стереотипами культуры, с клише и устойчивыми формами, активно преобразуя культурные смыслы в высказывание нового типа, чрезвычайно далёкое от традиционного мимезиса. В этой связи особенно важным для понимания сути орнаментальной прозы становится внимательный анализ структуры её художественных образов и обнаружение их типологических особенностей. В качестве пер- вого примера обратимся снова к творчеству Е.Замятина – к его произведению «Рассказ о самом главном», которое начинается следующим образом:
«Мир: куст сирени – вечный, огромный, необъятный. В этом мире я: желто-розовый червь Rhopalocera с рогом на хвосте. Сегодня мне умереть в куколку, тело изорвано болью, выгнуто мостом – тугим, вздрагивающим. И если бы я умел кричать – если бы я умел! – все услыхали бы. Я – нем.
Ещ ё мир: зеркало реки, прозрачный – из железа и синего неба – мост, туго выгнувший спину; выстрелы, облака. По ту сторону моста – орловские, советские мужики в глиняных рубахах; по эту сторону – неприятель: пестрые келубейские мужики. И это я – орловский и келубейский, я – стреляю в себя, задыхаясь, мчусь через мост, с моста падаю вниз – руки крыльями – кричу…
И ещ ё мир. Земля – с сиренью, океанами, Rho-palocera, облаками, выстрелами, неподвижно мчащаяся в синь земля, а навстречу ей, из бесконечностей мчится ещ ё невидимая, темная звезда. Там, на звезде – чуть освещенные красным развалины стен, галерей, машин, три замерзших – тесно друг к другу трупа, мое голое ледяное тело. И самое главное: чтобы скорее – удар о Землю, грохот, чтобы все это сожглось дотла вместе со мной, и дотла все стены и машины на Земле, и в багровом пламени – новые, огненные я, и потом в белом теплом тумане – ещ ё новые, цветоподобные, тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы…» 10.
Уже в первых трёх абзацах Замятин лаконично обозначает и идею, и композицию, и основные мотивы рассказа. Сжато, но исчерпывающе даны три мира, в которых будет происходить его действие (дальнейшее повествование будет только разворачивать и исследовать фрагменты нарисованной масштабной картины):
– первый – природный мир – «куст сирени» и червем Rhopalocera, ползущем по листу; далее в этом мире будет разворачиваться любовный сюжет – отношения Куковерова и Тали, и поэтому мотивы женского начала и чувственной любви в рассказе органично свяжутся с сиренью и червём :
«Густые, пригнутые вниз тяжестью цветов сиреневые ветки. Под ними вышитая кое-где солнцем тень – в тени – Таля. Ее густые, пригнутые вниз тяжестью каких-то цветов, ресницы. У Куковерова уже нет слов, и неизвестно почему – нужно согнуть, сломать сиреневую ветку. Ветка вздрагивает – и вниз летит желто-шелковыйRhopalocera прямо на Талины колени, в теплую ложбинку ее пропитанного солнцем и телом платья»11.
– второй – мир сражения орловских и ке-лубейских мужиков, страшный мир войны, символом которого становится мост, выгнувший спину. Этот образ еще не раз появится в тексте:
«Зеленое в красных рубцах небо, в тугой судороге изогнувшийся мост, над рекой — пар, в последний раз» 12;
– третий – мир космоса, надвигающаяся глобальная катастрофа, которая разрушит как Землю, жизнь на которой находится в глубоком кризисе, так и безжизненную Звезду, двигающуюся ей навстречу.
В тексте эти миры разделены графически (отдельными абзацами), но тесно связаны на мотивном уровне: тело червя выгнуто «тугим, вздрагивающим мостом», выгнутый мост напоминает спину, всё вместе – и мост, и червь – на погибающей Земле. Ещё одна нить, связующая миры, – мотив смерти, синонимом которого становится и умирающий «в куколку» червь, и мост, на котором люди убивают друг друга, и приближающаяся звезда, на которой находятся три трупа. Наконец, самый главный объединяющий миры элемент – повествователь, который одновременно отождествляет себя со всеми описываемыми объектами и явлениями: это он – червь, мост, сражающиеся мужики, Земля, которая вот-вот сгорит дотла и то новое, что вырастет после уничтожения мира. Отдельные элементы огромного мира, органически связанные между собой, являются, в конце концов, частями единого субъекта повествования, буквально его телом. Многоас-пектность, многоуровнивость каждого образа позволяют добиться эффекта его материальности. Иными словами, образ, в соответствии с установкой на неомифологизм, становится иконическим знаком. Превращение художественного образа в знак позволяет Е.Замятину пересоздать внутри отдельного произведения знаковую систему, закрепить за словами новые значения, выстроить их в новые ассоциативные ряды и в определенном смысле, обновив художественный язык, решить проблему аутентичности художественного высказывания.
Этими возможностями орнаментальной прозы пользуется в своих прозаических произведениях и О.Е.Мандельштам:
«У Николая Ивановича есть секретарша — правда, правдочка, совершенная белочка, маленький грызунок. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает как очень неопытная молодая мать к больному ребенку.
Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия.
Вот эта беляночка — настоящая правда с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она та другая правда — та жестокая партийная девственница — правда-партия. Секретарша, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет в преддверьи к кабинету, в телефонном предбанничке. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой!»13 .
Способ, которым создается образ секретарши, представляется нам чрезвычайно показательным примером орнаментального построения образа. Мандельштам разбирает его на 8 микрообразов, штрихов, характерных сопоставлений, которые группируются в 2 параллельных «потока». Первый изображает юную девушку, внимательную к посетителям, стремящуюся продемонстрировать свою старательность и ответственность, к которой повествующий субъект испытывает одновременно нежность, иронию и брезгливость. Компоненты этого образного ряда: «правда, правдоч-ка»14, «совершенная белочка, беляночка», «маленький грызунок», «неопытная молодая мать», «настоящая правда с большой буквы», «сестра милосердия». Благодаря переозначе-нию каждого образа, пред автором не встает необходимость прибегать к долгим описаниям и пояснениям. Второй образный ряд – та система, лицом которой становится молодая секретарша: «жестокая партийная девственница», «правда-партия», вызывающая у повествователя ужас. На этом примере особенно ясно виден механизм членения, лежащий в основе орнаментирования. Как пишет о сходных процессах в изобразительном искусстве Е.В.Синцов, в основу орнамента «положено некое изменение пространства, активная творческая работа по его членению на более мелкие части, их комбинированию, соотнесению друг с другом и целым всего пространства, некоторой явной или скрытой ритмизации частей и элемен-тов»15. В данном случае мы наблюдаем как раз композиционно совершенное построение образа: два параллельных образных ряда, которые соотносятся (рифмуются) друг с другом по принципу противопоставления (наивная юность – аскетичная жесткость), каждый из которых распадается на компоненты, соотнесенные друг с другом по принципу синонимии, складываются в амбивалентное, противоречивое, но, безусловно, целостное явление.
Орнаментальная проза позволяет читателю пережить одно явление многократно – через сопоставление его с другими, смежным по какому-либо признаку. При этом важным подчас является новизна и неочевидность такого сопоставления, что порождает эффект открытия новых связей и закономерностей внутри художественного мира произведения. С одной стороны, этот эффект противоречит общепринятым представлениям о реальности, которые во многом создают ощущение подлинности, аутентичности описываемого явления. Однако специфика орнаментальной прозы, очевидно, состоит в наличии чрезвычайно сильных не-омифологических структур, которые предполагают полное погружение читателя в создаваемую реальность и принятие им новых принципов её построения.
Этот способ создания художественного образа путем актуализации его потенциальных смысловых, культурных и ассоциативных слоев можно отнести к одной из разновидностей кубистического принципа – особого принципа работы с образом в литературе ХХ века. Свойством кубистического образа «становится текучесть, неустойчивость границ, децентрированность – невозможность привести все его аспекты к единому центру, одному началу, одной точке зрения, невозможность исчерпать его представлениями о личности, восходящими к XYIII – XIXв»16. Децентрированность образа, когда все его уровни существуют на равных даже тогда, когда они являются побочными ассоциативными наслоениями, вызвана особым мироощущением человека ХХ века: «Оказывается, что сам человек внутри себя лишен целостности, он находится в противоречии со своим сознанием, разные стороны его существа живут в разном времени, он никогда не находится полностью “здесь и сейчас”»17.
Вероятно, эти свойства художественного образа орнаментальной прозы могут быть сопоставлены с поэтическими. О близости орнаментальной прозы и стиха в разное время писали как Ю.Н.Тынянов и В.Б.Шкловский, наблюдавшие за становлением орнаментальной прозы, так и её более поздние исследователи – Л.А.Новиков, Н.А.Кожевникова, Б.Ларин, В.Шмид, Л.Сцилард… Многими из них тезис о прямом влиянии поэзии на орнаментальную прозу принимается за аксиому. Тем не менее, на наш взгляд, важно учитывать, что описанный выше способ построения художественного образа не свойственен поэзии в целом. Механизм выстраивания кубистического образа описан Н.Т.Рымарем как «субъективное вчув-ствование» в грани явления, которое настолько активно и радикально, что «порождает уже не “органическую форму”, а проникает как бы до эйдоса предмета, абстрагирует в нем глубинные конструктивные линии внутреннего напряжения, творя стилизованную и абстрактную форму чистой выразительности»18. Для орнаментальной прозы чрезвычайно характерно такое крайне интенсивное проникновение в образ, расслоение его на элементы, с тем, чтобы в итоге прийти через этот интуитивный анализ к более общей идее. Разные грани явления сосуществуют вместе, отражая раздробленность мира, но в то же время сплетаются друг с другом в пучки мотивов и поддерживают ощущение целостности художественного произведения, и это качество орнаментальной прозы оказалось ключевым для авторов 20-х годов ХХ века.
Подчёркнутый эстетизм и нарочитая сложность орнаментальной прозы, разумеется, не позволили ей занять сколько-нибудь заметное место в советском литературном процессе. Однако уже в 70-е годы, когда маргинальные литераторы активно создают свою литературу, параллельную официозной, многие из них выбирают особый затруднённый художественный язык, противостоящий «нейтральному» языку советских писателей. Неудивительно, что ор-наменатльный стиль, как яркое проявление литературы модерна 10-х, 20-х годов, вызывает интерес у части авторов, которых волнует проблема поиска нового высказывания, не дискредитированного советской эстетикой, утратившей связь с реальностью, переставшей восприниматься как подлинная. Как пишет об этом Марк Липовецкий «…запрет на модернистскую эстетику, (…) привел к тому, что русские постмодернисты с конца 1950-х годов вплоть до начала 1990-х упорно стремились вернуться в модернизм. Собственно, их постмодернизм и вырастал из невозможности такого возвращения и рефлексий по этому пово-ду»19. Наиболее ярко эти установки проявились в творчестве Саши Соколова, став творческой программой писателя. Три романа Саши Соколова – «Школа для дураков», «Меж- ду собакой и волком» и «Палисандрия» – являются результатом преодоления устаревшего, обессмысленного языка и пересозданием «родного наречия»20. Этого писатель добивается, обращаясь к орнаментальной прозе, что заметно уже в первом его романе – «Школе для дураков», где мы обнаруживаем все ее формальные признаки: ритм и звукопись, ряды перечислений и превращение слова в сюжет. Центральные образы – ветра, ветки, розы, лилии и т.п. создаются за счет разбора их на элементы, каждый из которых становится отдельным образом, мотивом, сюжетной линией, а сети этих мотивов и сюжетов скрепляют роман, превращают его художественный мир в мифологическое пространство. Абстрактные явления материализуются через длинные ряды сопоставлений, что делает образы иконичными.
Как происходит работа с образом в романе «Школа для дураков», можно показать на примере образа одного из его персонажей – учителя географии Павла Норвегова (он же Савл).
« Чья худая, но все еще царственная рука с утра до вечера вращает пустопорожнюю планету, сотворенную из обманного папье-маше!» «говорил, что ощущает себя настолько худым, что боится, как бы его не унес какой-нибудь случайный ветер. Врачи, — смеялся Норвегов, — запретили мне подходить к ветряным мельницам ближе, чем на километр, но запретный плод сладок: меня ужасно к ним тянет, они совсем рядом с моим домом, на полынных холмах, и когда-нибудь я не выдержу. В дачном поселке, где я живу, меня называют ветрогоном и флюгером, но скажите, разве так уж плохо слыть ветрогоном, особенно если ты — географ. Географ даже обязан быть ветрогоном, это его специальность, — как вы считаете, мои молодые друзья? Не поддаваться унынию, — задорно кричал он, размахивая руками»21 .
Все элементы образа являются культурными аллюзиями: болезненная худоба учителя вызывает одновременно ироничное замечание о том, что его может унести ветром, и аналогию с Дон Кихотом, которого неудержимо влекут ветряные мельницы, таящие в себе опасность. Выстроенный ассоциативный ряд: худой человек – страх быть унесенным ветром – Дон Кихот, в итоге приводит к прямому сопоставлению Норвегова с флюгером, т.е. к предельной материализации образа, отождествению чело- века с вещью. Однако на этом образный ряд не останавливается, актуализируя через смысловые образные компоненты «ветер» и «флюгер» семантику ветрености, несерьёзности, необоснованного оптимизма.
Одновременно профессия героя и его неизменный атрибут – глобус из папье маше – порождает аналогию с Богом, которая провоцирует изменение дискурса:
«Я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетенки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий, вы разучитесь читать и писать, вам захочется лепетать, подобно августовской осинке. Я приду и приведу с собой убиенных и униженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной, текущий у вас в жилах вместо крови. Бойтесь Насылающего Ветер, господа городов и дач, страшитесь бризов и сквозняков, они порождают ураганы и смерчи»22 .
Перестройка образа влечет за собой дискурсивные изменения, появляется интонация ветхозаветного Бога, угрожающего народу и всему миру. Так из мозаики различных культурных элементов: больной мученик, притесняемый директором и родителями учеников, учитель географии, идеалист Дон Кихот, Бог, Насылающий Ветер, флюгер, неунывающий ветрогон – складывается в сверхсмысл. Ни один компонент образа не вытеснен, все они сосуществуют наравных, создавая в образе мерцание смыслов. Формально этот образ моделируется больным шизофренией мальчиком, в чьём восприятии он сначала рассыпается на культурные составляющие, но потом воссоздаётся вновь, уже наполненный особым значением. Такое преобразование – углубление и расширение смыслов – очень характерно для орнаментальной прозы и приводит к образованию в произведении нескольких смысловых уровней, дополняющих и обогащающих друг друга. При этом образ, «вырастающий» из культуры, не теряет связи с первоначальным означаемым, но, напротив, изображает его чрезвычайно живо.
Так благодаря кубистическому принципу, лежащему в основе орнаментального образа, происходит перекодировка знака, перестройка его семантики, что ведет к обновлению художественного языка, который начинает переживаться читателем непосредственно и живо, а художественный мир, построенный на культурных аллюзиях, на языковой игре приобретает неожиданную убедительность и подлинность. Во многом эта подлинность достигается тем, что в основе орнаментальной прозы ле- жит важнейший принцип мышления современного человека – децентрализованность. Как пишет об этом М.Эпштейн: «Ни один элемент не отождествляется с центром, что моментально прекратило бы игру и заменило бы ее отношениями подчинения и господства. Но каждый элемент может быть центром, содержит в себе потенцию центра, что и создает возможность игры между разными центрами (…) Центр-номада странствует по всей структуре, не закрепляясь ни за одним из ее элементов (…) Это мышление, в котором каждый элемент централен по отношению ко всем другим и выступает то как означаемое, то как означающее других элементов; где нет отношений господства-подчинения, но совершается постоянная перекодировка значений-зави- симостей от одного к другому»23. По сути, кубистический принцип и идея номадного центра – проявления одного процесса, происходящего в сознании писателей ХХ века: желание аутентично запечатлеть реальность порождает отказ от традиционных форм; раздробленность мира и мироощущения диктует новые способы его изображения. В этом смысле орнаментальная проза может восприниматься как выход из ситуации раздробленности: разрушая привычные, традиционные связи между явлениями мира, он позволяет обнаружить альтернативные его закономерности.
THE SINGULARITY OF IMAGE IN ORNAMENTAL PROSE OF THE XX CENTURY
Список литературы Особенности структуры художественного образа в орнаментальной прозе ХХ века
- Медари М. Владимир Набоков в русле орнаментальной прозы: к вопросу о терминологических разногласиях/Revuedesetudesslaves, Tome 72, fascicule 3 -4, 2000. -C.333 -341; 335.
- Атрощенко А.С. Проблема орнаментального стиля в древнерусской литературе//Известия Самарского научного центра РАН. Т. 15, 2(3). -2013. -Самара.
- Новиков Л.А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. -М.: 1990. -С.27 -28.
- Шкловский В.Б. Орнаментальная проза. Андрей Белый//О теории прозы. -М.: 1929. -С.216.
- Рымарь Н.Т. Проблема аутентичности слова: лирический язык прозы Вольфганга Борхерта//Русская германистика. Ежегодник российского союза германистов. -Т.1. -М.: 2004. -С.233 -250; 240.
- Замятин Е.И. О синтетизме. Собр.соч. в 5 томах. -Т.3. -М.: 2004. -С.168.
- Мандельштам О.Э. Четвертая проза//Собр.соч. в 4 томах. -Т.3. -М.: 1994. -С.174.
- Синцов Е.В. Орнамент как метаязык хронотопических представлений культуры (к развитию одной идеи И.Канта)//[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/1999web3/phyl/199930507.html (Дата обращения: 28.07.2013г.)
- Рымарь Н.Т. Кубистический принцип и проблема мимезиса//Диалог культур -культура диалога. Сб. в честь 70-летия Н.С.Павловой. -М.: 2008. -С. 157 -174; 158.
- Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920 -2000-х годов. -М.: 2008. -С.268.
- Атрощенко А.С. Факт личной биографии как материал для формирования художественного образа в эссеистике Саши Соколова//Филология и культура. -2012. -№ 4 (30). -Казань. -С.65 -68.
- Соколов С. Школа для дураков. -СПб.: 2008. -С.25. Там же. -С.26.
- Эпштейн М. Философия возможного. -СПб.: 2001. -С.175