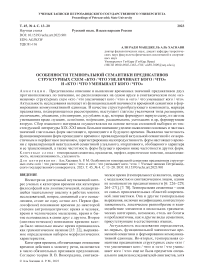Особенности темпоральной семантики предикативов структурных схем "кто / что увеличивает кого / что" и "кто / что уменьшает кого / что"
Автор: Али Ради Машджель Аль Хаснави
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 4 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Представлены описание и выявление временных значений предикативов двух противоположных по значению, но расположенных на одном ярусе в синтаксическом поле «изменение» структурных схем «кто / что увеличивает кого / что» и «кто / что уменьшает кого / что». Актуальность исследования вытекает из функциональной значимости временной семантики в формировании коммуникативной единицы. В качестве структурообразующего компонента, маркера предикатива, подвергающегося рассмотрению, выступают глаголы увеличения типа расширять, увеличивать, удваивать, удесятерять, усугублять и др., которые формируют первую схему, и глаголы уменьшения вроде глушить, замедлять, подрывать, расшатывать, уменьшать и др., формирующие вторую. Сбор языкового материала осуществлялся на основе метода сплошной выборки из текстов русской литературы XIX-XXI веков. Большое внимание уделено выявлению основных и частных значений глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени. Выявлена частотность функционирования форм прошедшего времени с превалирующей актуальной семантикой с ее аористичным и перфектным значением, зарегистрирована малопродуктивность форм настоящего времени с превалирующей неактуальной семантикой узуального, итеративного, обобщенного характера и ее транспозицией, а также частотность форм будущего времени ниже частотности других форм.
Темпоральная семантика, предикатив, перфект, аористическое значение, локализован -ность, нелокализованность, узуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/147240754
IDR: 147240754 | УДК: 81-116 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.901
Текст научной статьи Особенности темпоральной семантики предикативов структурных схем "кто / что увеличивает кого / что" и "кто / что уменьшает кого / что"
Несмотря на длительный неугасающий интерес ученых к категории времени как категории философской или лингвистической, подвергавшейся тщательному анализу в работах многих исследователей, вопрос, связанный с его осмыслением, стоит не одну сотню лет. Первое (философское) понимание времени до некоторой степени антропоцентрично: время и человек, время и человеческое мышление, время и бытие осознавались в связи друг с другом. Второе (лингвистическое) понимание времени всегда было несколько иным: время признавалось как грамматическое явление [15: 22], выражаемое определенным набором морфологических характеристик.
Категория времени, обозначающая отношение времени действия к моменту речи, включается в число обязательных признаков предложения. Согласно теории В. В. Виноградова, синтакси-
ческое время (темпоральность) является, наряду с модальностью и синтаксическим лицом, одним из компонентов предикативности [6: 226–229, 264–271], [7: 78]. Темпоральная семантика – одна из самых привлекательных областей современной лингвистики. Она и другие темпоральные выражения, включая модификацию, контекстную зависимость, лексическое разнообразие и взаимодействие элементов в нескольких грамматических категориях, возможно, столь же богаты и проблематичны, как и другие виды семантики, присутствующие в естественных языках.
Актуальность исследования определяется, во-первых, функциональной значимостью временной семантики в формировании коммуникативной единицы. Во-вторых, темпоральная семантика предикативов структурных схем «кто / что увеличивает кого / что» и «кто / что уменьшает кого / что» еще не была предметом специального анализа исследователей-лингвистов, хотя в русской лингвистике темпоральной семантике посвящено немало работ [1], [2], [3], [4], [6], [8], [9], [11], [14], [17], [18], [19], [20], [21] и др.
Цель исследования – выявление особенностей временных значений предикативов структурных схем «кто / что увеличивает кого / что» и «кто / что уменьшает кого / что».
Фактический языковой материал (с 12730 условно-печатных листов получено 700 примеров), лежащий в основе исследования, представлен сплошной выборкой из романов, повестей, рассказов и пьес русских писателей XIX–XXI веков: В. Аксенова, А. С. Грина, Ф. М. Достоевского, Ю. Дружникова, А. Б. Мариенгофа, А. Н. Толстого и др.1 Количество авторов – 19. Ограничение хронологическими рамками (1866–2011) обусловлено развитием художественного языка и литературных форм в рассматриваемый период. Наблюдаются заметные изменения как на текстовом уровне, так и на собственно языковом, не говоря об изменении норм русского литературного языка, продолжающемся и в настоящее время.
Одним из важнейших компонентов содержательной структуры высказывания, который устанавливает его соотнесенность с внеязыковой действительностью в реально существующем физическом времени, воспринимаемом человеком в его отдельных моментах, отрезках, промежутках, является темпоральная семантика [11: 5]. Данная семантическая категория объективирована в высказывании различными средствами: грамматическими, лексическими и комбинированными (грамматико-контекстуальными, лексико-грамматическими), образующими временной дейктический центр, который, находя выражение в системе глагольных форм времени, рассматривается как системно-языковая точка отсчета [3: 5–8], [4: 478].
Под временным дейктическим центром понимается отражение, обобщение и закрепление в данной языковой системе и существующих в ней подсистемах внеязыкового момента речи как того центра временной ориентации, который выступает в процессах коммуникации [3: 8–9]. Поскольку временные глагольные формы являются ядром временного дейктического центра, они обнаруживают ориентацию на определенную точку отсчета – дейктический центр, заключенный в построении данной системы, ее фокусировке [3: 8]. Понятие временного дейксиса обозначает языковую интерпретацию соотнесенности времени ситуации с моментом речи или какой-либо иной точкой отсчета [13: 17], то есть темпоральная ориентация обозначаемой ситуации с точки зрения говорящего или другого лица, определяющего временные отношения [4: 478].
В определении темпоральной семантики предикатива учтено сочетание актуальности / неактуальности или один из компонентов категориальных признаков локализованности / не-локализованности действия (ситуации) во времени: конкретности, неконкретности (узуальности или временной обобщенности).
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
«КТО / ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ КОГО / ЧТО»
Данная схема трехкомпонентна (по частотности функционирования она занимает первое место, что составляет 50,1 % примеров). Она представляет пропозицию, включающую следующие смыслы: субъект – предикат – объект. В позиции субъектива отмечаются как одушевленные, так и неодушевленные существительные в форме именительного падежа, которые относятся к разным лексико-семантическим группам имен: детина, мадемуазель, охотник, человек; лошадь, медведь; вещество, занавеска, облако, сообщение, чувство и др. Нередко в этой позиции выступают и личные ( я, он, они ), указательные ( это ), определительные (весь, все), относительные ( который, кто ) местоимения или субстантивированные прилагательные ( подручный ). Позиция предикатива занята глаголами увеличения типа растягивать, увеличивать, удваивать, удесятерять, усугублять и др. Позиция объектива, подвергавшегося изменению, представлена личными, конкретными или отвлеченными именами в форме винительного падежа: деньги, подтяжка, тираж; наказание, план, ругательство, событие и др. Реже в этой позиции выступают определительные ( весь, все, другой ) и неопределенные ( что-то ) местоимения.
В текстах возможны пропуски словоформ со значением субъекта ввиду их информативной избыточности или контекстуальной представленности:
«Во всех здешних будем в дальнейшем расширять посадку картофеля и овощей, а в Заречье - зерновые» (Астафьев: 561).
Необходимо отметить, что «субъект и предикат – термины понятийные, субъектив и предикатив – термины функциональные». Субъективом называется словоформа со значением субъекта, предикативом – словоформа, репрезентирующая предикат [12: 14].
Инвариант схемы (индикатив) с предикативом в форме настоящего времени малопродуктивен в функционировании (13,6 % примеров). Темпоральную семантику пропозиции назы- вают актуальной или конкретной тогда, когда ситуация прикреплена к кому-то моменту или периоду речи. Если ситуация не прикреплена к определенному периоду речи, речь может идти о неактуальной или абстрактной семантике [1: 64-68].
Актуальное настоящее время предикатива с семантикой увеличения, соотносимое с моментом речи, в материале исследования встречается редко (2,1 %):
«Председатель суда предупредил, что это замечание усугубляет вину и усиливает наказание» (Паустовский: 448); « Зоя Петровна пытается растянуть губы в угодливую улыбку» (Мариенгоф: 39).
Во втором примере сочетание модально -го глагола и инфинитива традиционно рассматривается как составное глагольное сказуемое. Модальный глагол в данном случае служит модификатором, усложнителем предикатива.
В подавляющем большинстве случаев форма настоящего времени обозначает неактуальное значение (11,9 % примеров). Среди различных вариантов ситуации неактуального настоящего можно выделить:
-
1. Ситуацию настоящего узуального, неоднократного, итеративного, основанного на обобщении опыта говорящего [2: 217], полученного наблюдением и анализом [9: 181]. Узуальность может быть результатом логических рассуждений, мыслительной деятельности [10: 29]:
-
2. Ситуацию настоящего обобщенного, гномического, вневременного, отличающегося максимальной степенью генерализации субъекта, объекта и ситуации в целом [4: 459]:
-
3. Ситуацию настоящего постоянного:
«Мои подручные специально для этого дела зиму бороды отращивают , одеваются в грязное да рваное» (Топилин: 120); « Жалованье я увеличиваю вдвое, так же удваиваются обычные премии» (Толстой: 697)
или следствием переносного употребления времени [1: 170]:
«Строительство железных дорог ускоряет разрушенье лесов...» (Леонов: 303); « Так вот, тем самым, товарищ Щельга, что вы пробудете здесь с недельку в соседстве с пауками, вы страшно, неизмеримо увеличиваете возможность моей победы» (Толстой: 257).
В последних примерах форма настоящего времени, думаем, функционирует в плане будущего.
«Порядок расширяет мысль, – был его любимый афоризм» (Дружников: 62); «Вещи усиливают ощущение времени» (Паустовский: 408).
«Он все время раздувает ноздри, как легавая собака, почуявшая куропатку...» (Толстой: 761).
Значение ситуации увеличения, предшествующей моменту речи говорящего, передают продуктивные в функционировании глаголы прошедшего времени (84 % примеров). Они, наряду с локализованной во времени ситуацией (59,4 % примеров), маркируют и нелокализованную (24,6 %).
На конкретность, локализованность во времени ситуации, отнесенной к прошлому (предшествующей по отношению к точке отсчета), указывают:
-
1) глаголы совершенного вида, обозначающие ситуацию, предшествующую моменту речи говорящего (то есть подчеркивающие основное значение формы совершенного вида):
«Корейский рис удвоил рисовый кризис метрополии» (Пильняк: 488);
-
2) глаголы несовершенного вида в имперфективной функции со значением подчеркнуто непрерывного, длящегося в определенный период времени увеличения:
«Но монах и Денисов, не слушая, раздували ноздри» (Толстой: 449); « Лошади на минуту ускоряли шаг, а потом снова едва плелись, фыркали, тянулись к темной траве по обочинам дороги» (Паустовский: 14-15).
Последний пример отражает значение расширенного прошедшего, включенного в состав актуального;
-
3) сочетаемость цепи глаголов совершенного вида с семантикой увеличения в аористи-че ском значении, выражающих ряд сменяющих друг друга фактов прошлого:
«Лушка тоже признала бабку Ветлужанку, обрадовалась, как новым валенкам, ускорила шаг, прямым ходом к ней» (Топилин: 93); « Хотел затормозить, но пока думал, останавливаться или нет, отъехал уже далеко и тогда еще прибавил газ» (Дружников: 289).
В последнем примере наречие тогда заставляет воспринимать глагольное действие как факт, замкнутый в рамках прошлого и лишенный актуальности для более позднего временного плана;
-
4) форма прошедшего времени глаголов совершенного вида в перфектном значении:
«Иван передал указанную сумму, сверху накинул еще десятку» (Топилин: 273); «Болезненный юноша, вложив указательные пальцы в углы рта, растянул его, как чулок» (Мариенгоф: 276).
Неконкретную, абстрактную, нелокализован-ную во времени ситуацию реализует форма прошедшего времени. К таковым относятся:
-
1) узуальность, повторяемость действия:
«Так, - сказал Гарин. (Опять прибавил три непонятных слова по-русски.) - Еще что?» (Толстой: 787); «Еще примечательнее была его речь: шипящие звуки он произносил как свистящие, свистящие как шипящие, горловые как носовые, носовые как горловые; краткие удлинял, долгие укорачивал, а что касается до ударений, то здесь - не было никаких границ его изобретательности и фантазии» (Мариенгоф: 522);
-
2) итеративная семантика, языковым показателем которой являются темпоральные конструкции: временами , каждый день, иногда :
«Не описываю первого времени долгого пути - дни были однообразны, и каждый увеличивал радость, и сердце мое сильнее щемила грусть» (Толстой: 286);« Они (импрессионисты) писали под открытым небом и иногда , может быть, нарочно усиливали краски» (Паустовский: 572);
-
3) обобщенность:
«А так как при всяком превращении вещества есть неустранимые потери, то пожранный маленький аэн не увеличивал тела большого аэна» (Платонов: 66).
Непродуктивная в функционировании синтаксическая форма будущего времени (2,4 % примеров), выражающая следования по отношению к исходной точке отсчета, реализует как актуальную (1,4 %):
«Иоаким. Один приговор, вынесенный судьями, второе увеличит оборот нашего торгового дома» (Мариенгоф: 17), так и абстрактную (1 %) семантику (названная форма употребляется в плане настоящего абстрактного с оттенком уверенности):
«Ужя вам поручусь, дело пробованное <...> ну, а вам чарку водки поднесет и хоть на этот раз водой ее не разбавит» (Короленко: 306).
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
-
«КТО / ЧТО УМЕНЬШАЕТ КОГО / ЧТО»
Схема также трехкомпонентна (частотность функционирования ее представлена примерно в 49,9 % примеров). Предикатив (первый конститутивный компонент) маркирован глаголами уменьшения: глушить, замедлять, ослаблять, подрывать, понижать, расшатывать, смягчать и др. Субъектив (второй конститутивный компонент) представлен наименованиями: капитан, ключ, офицер, прикосновение, сознание, собака, старуха, теща и др. Субъектив может быть маркирован личным местоимением ( я, мы, он, она, они ), другими разрядами местоимений: отрицательными ( никто ), вопросительными ( кто ), указательными ( тот, это ), определительными ( каждый, сам ). Объектив (третий конститутивный компонент) репрезентирован номинантами: дорога, лист, лицо, смысл, значение, тело, уверенность, чувство, штаны и др. Позицию объектива могут занимать родовые имена ( противник, мамаша ), непарнокопытные домашние животные ( конь, лошадь ).
Высказывания, формируемые глаголами со значением уменьшения, допускают эллипсис как субъектной словоформы, так и словоформы со значением объекта:
«Наслаждаясь протухшим мясом, притупил бдительность, подпустил охотников на верный выстрел» (Топилин: 336); «Текст укрепляет советскую власть, а подтекст расшатывает » (Дружников: 360).
Настоящим временем предикатив представлен в 16,2 % примеров, репрезентирующих схему «кто / что уменьшает кого / что».
Актуальность (6,3 % примеров) ориентации времени ситуации на момент речи отражается в высказываниях типа:
«В специальной почтовой конторе у так называемой границы станции горит стосвечовая лампочка, она рассеивает полумрак и создает уют» (Соколов: 49); «Отойдя метров на сто от школы, сбавляем ход» (Прилепин: 113).
К этому временному плану относятся настоящее расширенное, охватывающее, помимо момента речи, план прошлого или будущего [5: 92], [15]:
«Не выдумываю теории, которые всегда ограничивают свободный рост мысли и воображения» (Горький: 881); «Рассказ еще больше понижает настроение» (Булгаков: 345).
Неконкретное настоящее времени момента речи (9,6 % примеров) представлено:
-
1) узуальностью, повторяемостью:
«Эти еретики упорствуют и всюду, где только можно, подрывают самый принцип королевской власти» (Толстой: 479);
-
2) итеративностью:
«Он хочет добра людям, снижает каждый год цены, склоняется к карте лесозащитных полос - и прыроду пабэдым!» (Аксенов: 346); «Сдержанность происходила из уверенности, что каждый день ослабляет противника и облегчает его будущий разгром» (Леонов: 121);
-
3) обобщенностью:
«Кто не пьет, тот подрывает нашу экономику» (Друж-ников: 370) ; «А силы так и не убывают » (Топилин: 259) .
Маркируя локализованную и нелокализован-ную во времени ситуацию уменьшения, формы прошедшего времени продуктивны в функционировании (80,8 % примеров).
По семантическому признаку локализован-ности (59,5 % примеров) собранный и исследованный материал позволил нам выделить ситуации трех типов.
-
1. Ситуации с актуальным прошедшим, маркирующим глаголы совершенного вида, отражающие основное значение названной формы:
-
2. Ситуации с актуальным прошедшим, маркирующим глаголы несовершенного вида:
-
3. Ситуации с актуальным прошедшим, маркирующим глаголы совершенного вида в аористическом и перфектном значении.
«Ягубов сдержал поспешность и отвечал спокойно, с достоинством, но от прямой оценки ушел, чтобы не навязывать товарищам свою точку зрения» (Друж-ников: 496-497);
«За те десять минут, nока автомобиль сокращал город, десять полицейских отметили его номер в записной книжке, noтoму что были нарушены все правила уличного движения, с неизбежным бегством врассыпную встречных и поперечных» (Грин: 317-318).
К актуальной семантике относим прошедшее расширенное:
«Она уже минут пятнадцать суживала глаза – это всегда было признаком того, что она думает и слегка злится» (Прилепин: 888).
Аористическое значение формы прошедшего времени совершенного вида связывается с представлением действия как звена в цепи последовательных действий, сменяющих друг друга:
«Под знакомым деревом путница замедлила шаг, приостановилась, с грустью в глазах посмотрела на место свидания с Иваном» (Мариенгоф: 91); «Наши герои притихли, умерили пыл, предались расспросам: – Мы вас раньше в наших краях не видели» (Топилин: 317).
Перфектное значение, думаем, отражено в высказываниях типа:
«Какой же чудовищной силы и мощи фугас я запустил, что пошатнул здоровую мораль передового советского сообщества?!» (Астафьев: 14).
Временная нелокализованность ситуации (20,4 % примеров) отмечена:
-
1) итеративным вариантом:
«Это была весна <.. .> И собака - еще недели за две до родов – всячески мешала хозяевам. То она подкапывалась под дровяной сарай, то подрывала корни смородины, то рылась под домом, уготавливая нору, где она могла бы разродиться» (Пильняк: 10);
-
2) обобщенным вариантом:
«Петруха не рассеивал в людях этого заблуждения и даже другу не рассказывал о чем, как “жмет масло” из начальства» (Астафьев: 214);
-
3) метафорическим (переносным) вариантом, относящимся к будущему времени. Темпоральная отнесенность к будущему времени находит выражение, как отмечает Т. Е. Шаповалова, «при функционировании форм сослагательного наклонения с модальным значением предположительного условия или возможности» [21: 125]:
«Был бы я московским комендантом, - помолчав, сказал он, - сократил бы патрули и выделил наряды бойцов на кладбищах могилы копать» (Симонов: 166).
Кроме того, неактуальная семантика есть результат представления в сознании говорящего ситуации уменьшения:
«Каждое прикосновение ее пальцев будто сбавляло жар» (Паустовский: 131).
Синтаксическая форма будущего времени предикатива нечастотна (3 % примеров) и материализует актуальную семантику (2,3 %):
«Ведь я Богу служу и отечеству; я ведь тяжкий грех возьму на себя, если ослаблю закон , подумай об этом! – Ваше благородие!» (Достоевский: 70).
Значительно реже (1,7 %) встречаются высказывания, предикатив которых представлен неактуальной будущей семантикой, функционирующей в плане настоящего абстрактного:
«Из этого простого желания вы сочинили и распустили слух, что я у вас хочу лучших работников хитростью отбить, а потом опять сбавлю цену ниже нынешней» (Лесков: 419).
Известно, что способность какой-либо семантики быть элементом актуального или неактуального смысла обусловлена намерениями говорящего или автора произведения использовать конкретное или неконкретное время, а также взаимодействием контекста, занимающего немаловажную роль в выражении признака лока-лизованности / нелокализованности во времени действия, способа действия, лексического значения и вида глаголов [4: 464-465], [18: 125]. По словам Ю. С. Маслова, эти смыслы передают контекст и ситуация, а иногда выбор глагольной лексемы [16: 513].
Необходимо отметить, что контекст, участвующий в реализации того или иного частного значения у граммемы несовершенного вида, может быть лексическим, синтаксическим или ситуативным [18: 11].
Материал нашего исследования показал непродуктивность формы настоящего актуального обеих схем. Это объясняется, думаем, тем, что большинство названных схем глаголов принадлежат к итеративным способам действия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Темпоральная семантика предикативов структурных схем «кто / что увеличивает кого / что» и «кто / что уменьшает кого / что» репрезентирована в нашей выборке почти всеми синтаксическими временными формами в их актуальном и неактуальном значении.
Все три синтаксические формы предикатива – настоящее, прошедшее и будущее – объективированы как актуальной, так и неактуальной семантикой, но степень их продуктивности различна. Наиболее частотными являются формы прошедшего времени с превалирующей актуальной семантикой с аористичным и перфектным значением. К неактуальной, абстрактной темпоральной семантике отнесены узуальность, повторяемость, итеративность и обобщенность формы прошедшего времени структурной схемы «кто / что увеличивает кого / что», тогда как неактуальность, абстрактность формы прошедшего времени структурной схемы «кто / что уменьшает кого / что» представляет итеративность, обобщенность и метафоричность. Малопродуктивны формы настоящего времени с превалирующей неактуальной семантикой узуального итеративного, обобщенного характера и ее транспозицией. Частотность форм будущего времени ниже частотности других форм. Выявлено, что большинство формирующих названных схем глаголов принадлежат к итеративным способам действия.
Прилепин 3. Дорога в декабре: Патологии. Грех. Ботинки, полные горячей водкой. Санька. Черная обезьяна.
Список литературы Особенности темпоральной семантики предикативов структурных схем "кто / что увеличивает кого / что" и "кто / что уменьшает кого / что"
- Бондарко А. В. Вид и время русского глагола (значение и употребление). М.: Просвещение, 1971. 239 с.
- Бондарко А. В. Временная локализованность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л.: Наука, 1987. С. 210-230.
- Бондарко А. В. Темпоральность // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л.: Наука, 1990. С. 5-48.
- Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка / Рос. академия наук. Ин-т лингвистических исследований. М.: Языки славянской культуры, 2002. 736 с. (Studia Philologica).
- Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол. Л.: Просвещение, 1967. 190 с.
- Виноградов В. В. Избранные труды: Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975. 560 с.
- Грамматика русского языка. Т. 2. Синтаксис. Часть первая. М.: АН СССР, 1954. 703 с.
- Демидкина Д. А. Темпоральные и референциальные значения временных форм с системной семантикой перфекта в английском и русском языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2020. Т. 13. Вып. 12. C. 250-254.
- Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973. 351 с.
- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Изд-во МГУ, 1998. 524 с.
- Казарина В. И. К вопросу о темпоральной семантике модификатора должен // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 46. С. 5-20. Б01: 10.17223/19986645/46/1
- Казарина В. И. Современный русский синтаксис: структурная организация простого предложения: Учеб. пособие. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2007. 329 с.
- Категория временного порядка и функции глагольных форм вида и времени в высказывании (на материале русского языка) // Межкатегориальные связи в грамматике / Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб.: Дмитрий Бу-ланин, 1996. С. 6-22.
- Кострова О. А. Когнитивное моделирование темпоральной семантики в немецком нарративном дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2018. № 2 (55). С. 21-30.
- Луннова М. Г. Категория вневременности: из истории вопроса // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. 2010. № 15 (19). С. 22-24.
- Маслов Ю. С. Избранные труды: Аспектология. Общее языкознание. М.: Языки славянской культуры, 2004. 840 с.
- Падучева Е. В . Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2010. 480 с.
- Петрухина Е. В . Русский глагол: категории вида и времени (в контексте современных лингвистических исследований): Учеб. пособие. М.: МАКС Пресс, 2009. 208 с.
- Пометелина С. М. Синтаксически связанные конструкции временной семантики как фрагмент русской темпоральной картины мира // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. Гуманитарные исследования. 2020. № 2 (8). С. 42-48.
- Шаповалова Т. Е. Категория синтаксического времени и уступительность // Русская грамматика: структурная организация языка и процессы языкового функционирования / Под ред. О. И. Глазуновой, К. А. Роговой. М.: ЛЕНАНД, 2019. С. 166-176.
- Шаповалова Т. Е. Темпоральная семантика поэтического высказывания: Электронное издание. М.: ИИУ МГОУ, 2020. 167 с.