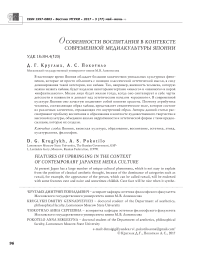Особенности воспитания в контексте современной медиакультуры Японии
Автор: Круглых Дмитрий Геннадьевич, Покотило Анна Сергеевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 3 (77), 2017 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время Япония обладает большим количеством уникальных культурных феноменов, которые не просто объяснить с позиции классической эстетической мысли, в силу доминирования такой категории, как каваии. Так, например, внешность человека, которую можно назвать каваии, будет наделена некоторыми чертами «милого» и «наивного» и порой «инфантильного». Милое лицо будет милым тогда, когда оно синтезирует в себе черты детскости и наивности и довлеет над эстетическим началом «красивого». В современной культуре Японии оно зачастую подменяет собой понятие красоты. Поэтому атрибутика человека, составляющая образ каваии, представляет семантическое поле, которое состоит из различных элементов, отражающих его внутренний образ. Авторы данной статьи рассматривают проблему воспитания и образования в контексте художественного творчества и массовой культуры, объединяя анализ нарративности и эстетической формы с теми предпосылками, которые их создали.
Япония, японская культура, образование, эстетика, этика, культурология, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/144161090
IDR: 144161090 | УДК: 18:304.4(520)
Текст научной статьи Особенности воспитания в контексте современной медиакультуры Японии
В современных условиях искусство, являясь одним из факторов воспитания и образования, воздействует на реципиента как с помощью эстетической формы, так и с помощью нарративности, тем самым формируя аксиологическую систему в двух векторах: эстетическом и этическом. В этом ракурсе очень чётко можно выявить те предпосылки и те сообщения, которые заложены в произведении искусства. Одна из главных задач воспитания и образования – формирование целостной аксиологической системы. Поэтому нельзя отрицать того факта, что любое эстетическое воздействие формирует мировосприятие, определяющее способ прочтения культурных и социальных маркеров, которые заложены в обществе. Произведения искусства, обладая собственной нарративностью и формой, стимулируют развитие личности человека и при целенаправленном применении могут быть использованы для создания поведенческих схем и аттитюдов.
В условиях превалирования постмодернистской парадигмы популярная культура имеет большее влияние на повседневную жизнь людей и формирование личности человека, нежели элитарное искусство. Популярная культура обладает набором элементов, которые ста- новятся мощными инструментами воздействия на массовое сознание.
В Японии в качестве таких инструментов можно назвать анимацию и комиксы манга. Более того, такая нарратив-ность, созданная в контексте индустрии, тиражируется и за счёт образования. Если раньше художники, сценаристы и режиссёры могли получить образование в художественных училищах классической направленности, то с недавних пор начали появляться училища, которые специализируются только на производстве аниме и манги. Выпускники подобных училищ обладают глубоким пониманием современной эстетики Японии. Они находятся в уникальном положении, так как родились и выросли в окружении аниме и манги и в совершенстве владеют их выразительными средствами, что позволяет им профессионально использовать их для достижения поставленных целей. Это порождает и особое проблемное отношение в образовательном контексте: насколько такая особенность поможет в формировании целостной аксиологической системы и привнесёт в аниме-культуру что-то новое извне или оно будет развиваться внутри самого себя, культивируя категории «милого» и «наивного», а следовательно, традиционные вопросы искусствознания, культурологии и эстетики будут принимать другой ракурс.
Б. Мак-Вейг в своей монографии “Wearing Ideology: State, Schooling and Self-Presentation in Japan” напрямую называет каваии – эстетический стиль, доминирующий в индустрии манга и аниме, инструментом, при помощи которого го- сударство насаждает поведение, которое считает приемлемым. Кавайные персонажи в социальной рекламе, политических листовках внушают симпатию, что позволяет им внедриться в подсознание. Так, социальная реклама, содержащая образы персонажей из советского мультфильма «Чебурашка», призывает уступать места пожилым людям в японском метро и электричках.
Японское общество имеет самый высокий отрицательный прирост населения на планете: при высокой продолжительности жизни рождаемость снижается с каждым годом. Защита материнства – одно из приоритетных направлений, в котором работает японское правительство. Работа ведётся для того, чтобы на ранних месяцах, когда беременность не является очевидной окружающим, женщины могли чувствовать себя защищёнными.
Данная социальная кампания состоит из ряда элементов, объединённых общей эстетикой. Среди элементов кампании – настенные объявления в общественном транспорте с призывами заботиться о будущих матерях. Для того чтобы беременных было легче опознать, были придуманы специальные значки, которые прикрепляются на одежду или сумочку. Как объявления, так и значки имеют округлую форму, внутрь которой помещены схематичные изображения женщины и спелёнатого младенца у неё на руках, а также сообщение, набранное округлым шрифтом, подчиняющимся общему стилю и содержанию сообщения. Наличие значка сразу же даёт окружающим понять о состоянии женщины. Таким образом, скромным и застенчивым японкам не приходится, к примеру, просить уступить им место в переполненном автобусе или вагоне метро.
ХХ век поставил Японию в иные условия существования, стиль жизни из- менил этические и эстетические идеалы, тем самым придав импульс для создания новых эстетических концептов. Каваии – это отражение эстетических категорий «милого», «нежного», которыми обладает человек или вещь и которые проявляются в том числе и во внешнем образе. Относительно человека каваии состоит из следующих компонентов:
-
1) внешность человека;
-
2) поведение;
-
3) вещественная атрибутика.
Человеческое восприятие здесь не стремится к некоторому «возвышенному» и «прекрасному», обращая внимание только на материальное проявление того, что в первую очередь важно для восприятия. Так, например, внешность человека, которую можно назвать каваии, будет наделена некоторыми чертами «милого», «наивного» и порой «инфантильного». Милое лицо будет милым тогда, когда оно синтезирует в себе черты детскости и наивности, которые довлеют над эстетическом началом «красивого». В современной культуре Японии это понятие зачастую подменяет собой понятие красоты. Поэтому атрибутика человека, составляющая образ каваии, представляет семантическое поле, которое состоит из различных элементов, отражающих его внутренний образ. «Детское» здесь облекается в простые формы и будет являться той вещью, которую можно определить как каваии. В русском языке у слова «милый» есть синоним «прелестный», который может отобразить концепт каваии. Простота, которая являет себя через форму «милого», и будет суть каваии.
При этом появляется дихотомия отношения к данной категории эстетики. С одной стороны, каваии подчёркивает детскость как в поведении, так и в атрибутике. С другой стороны, это может возвести детскость в степень гипертрофированного детского поведения – инфантильности. Естественно, такая категория являет себя в повседневной жизни, однако наибольшее проявление данной категории можно обнаружить в аниме – феномене современной японской культуры. Таким образом, необходимо выделить два явления: проявление «милого» в нарратив-ности и в эстетическом образе. Эти два проявления затрагивают все элементы повседневного быта японцев.
Нарративность «милого» в первую очередь необходимо связать с этико-социальными парадигмами, которые существуют в японском обществе. Такие этические идеалы формируются в процессе особых социальных отношений, присущих только Японии. Одним из главных факторов, сформировавшихся в условиях феодального японского общества, выступает тип социальных отношений, основой которых является долг и выплата этого долга. В данном случае человек считается изначально обязанным перед социумом. Долгом выступает категория «он» – это долг, который приобретается человеком пассивно. Обязательства могут быть получены от императора, ро- дителей, господина, учителя. Это – априорное состояние всех членов японского общества, определяющее поведение индивидов. Способов выплаты подобных долгов существует достаточно много, однако в контексте данной работы нас интересует категория гири. Само понятие гири труднопереводимо, а объяснить его в контексте европейской морали достаточно сложно. Это понятие включает в себя не только полное осознание долга, но и осознание нужности выплаты этого долга, которые сами устанавливают рамки и границы поведения в социуме. Гири может осуществляться как поддержка/ помощь/услуга/подарок. Можно определить понятие гири как осознание долга.
Существование этих понятий возможно только благодаря другим существующим в Японии ключевым терминам: хоннэ и татэмаэ .
Хоннэ есть обозначение истинных намерений человека. Значение слова происходит из самой этимологии слова, так как в слове хоннэ первый иероглиф несёт на себе смысл «истинного», «основного– данного», а второй иероглиф выступает со значением «звук». В результате получается термин, который обозначает истинные намерения человека, истинные мотивы. Это те личные переживания человека, о которых может знать только сам человек или самое ближайшее, самое узкое его окружение.
Второе же понятие является полной противоположностью хоннэ. Здесь также необходимо обратиться к этимологии слова, где первый иероглиф несёт значение «здания», а второй – «перед». Таким образом, интуитивно мы представляем себе фасад здания. Это – тот образ, создаваемый человеком, та соци- альная маска, которая не только удобна индивиду, но и наличия которой требует общество. По сути, это есть «внешнее» и «внутреннее» лицо. В европейской философской традиции эту схему можно сравнить с теорией социальных масок – в условиях современного японского общества, где давление на индивида относительно его поведения и эффективности в обществе чрезвычайно высоко. Так возникает желание подчиниться этому давлению и плыть по течению, отказавшись от собственных желаний, жить согласно Должному. Однако здесь велика вероятность стирания индивидуальности. В европейском понимании публичный образ должен обладать индивидуальностью, даже если это – всего лишь социальный конструкт. В Японии социально одобряемая публичная маска имеет чрезвычайно жёсткие рамки, выход за которые ставит индивида на грань с бунтарством. Интересно то, что хоннэ – это лицо, которое за всю жизнь человека увидит лишь самое интимное окружение.
В особенности эти категории касаются девочек и молодых женщин, так как их поведение рассматривают с самых жёстких позиций, и маска каваии буквально насаждается как различными медиаисточниками, так и окружающими людьми. Поведение в стиле каваии в Японии имеет ряд вербальных и невербальных воплощений. Одним из элементов поведения каваии является лексика. Женщины пользуются набором лексических приёмов, позволяющих достигнуть искомого эффекта, а также голосовыми модуляциями – более высокий голос считается показателем уважения к собеседнику или рассказ о себе в третьем лице с добавлением суффикса «тян», как делают дети.
На наш взгляд, Япония – страна, одержимая молодостью как временем беззаботной радости. Люди, обременённые работой и повседневными проблемами, стремятся вернуться в это время – через поведение и потребление в эстетике каваии . Женщины, окружающие себя кавайными предметами, стремятся преодолеть давление общества, предписывающего им жёстко очерченную линию поведения. Школа, университет, непродолжительная карьера офисного клерка, замужество, материнство. Задержка на этапе юности – пассивный бунт против системы ригидного японского общества.
Поведение в стиле каваии служит инструментом, обезоруживающим критически настроенное общество, позволяет обнаружить свою индивидуальность, не боясь подвергнуться остракизму.
В связи с этим и нарративность в кинематографе, в литературе, особенно в массовой культуре, сводится к достаточно простому набору сценариев. Здесь ча- сто встречающимся элементом повествования становится простота героев в их отношении к категориям «добро – зло», где антагонист легко может стать «добрым», если его об этом «попросить». С другой стороны, его безответственность, неряшливая внешность, слабость, которую он обнаруживает в критический момент, – характеристики, подходящие под критерии каваи, позволяют злодею искупить вину перед героем. Такое представление вписывается в детские представления об абсолютном добре и зле. Инфантильное поведение такого рода демонстрируется в фильмах признанных мэтров, например Такэси Китано. В фильме «Кикудзиро» он демонстрирует эту категорию именно в контексте нарра- тивности. Это рассказ о взрослом, хулиганистом герое Кикудзиро, который живёт одними азартными играми, а проблемы решает кулаками. По сути, он является явным воплощением инфантильности, но только во взрослом мире. Однажды герой встречает мальчика Масао, и вместе они отправляются на поиски его мамы. Большая часть фильма уделяется игровому моменту и стиранию граней между мальчиком и мужчиной. Как раз этот момент и можно определить как «милый».
Поэтому такая нарративность детскости должна быть вписана в правильную эстетическую форму. Наиболее яркое отражение идей каваии можно обнаружить в манга и аниме-культуре. Если оценивать пропорции лица ребёнка, то первое, что можно увидеть, – это большие глаза. Именно этот элемент нашёл явное отражение в японской анимации, где все персонажи обладают непропорционально большими глазами. Но даже при такой детской простоте не пропадает коннотационная пресыщенность атрибутики персонажа, где даже окрас волос персонажа отражает его черты характера. В результате идёт явное упрощение для прочтения персонажей, что также укладывается в концепцию каваии, в том числе в цветовую интерпретацию. Форма напрямую соотносится с содержанием, при этом сочетания формы и цвета японские художники используют так, что если это пастельные тона или же, наоборот, цвета ядовито-яркого оттенка, они помогают в раскрытии персонажа. Это можно считать аналогом кукольного театра, с помощью которого легко воспитывать и доносить моральные принципы.
Таким образом, культурное пространство в Японии, которое является уникальным в силу своих географических, политических и социальных особенностей, в ХХ веке смогло породить уникальную эстетическую категорию, являющуюся не только интересным эстетическим дискурсом, но и тем сильным образовательно-воспитательным рычагом, который позволяет выстраивать культурно-аксиологическую систему японского социума.
Список литературы Особенности воспитания в контексте современной медиакультуры Японии
- Барт Р. Империя знаков/. Москва: Праксис, 2004. 142 с.
- Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры/сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Зенкина. Москва: Изд-во имени Сабашниковых, 2003. 511 с.
- Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры/под ред. А.В. Говорунова; пер. с англ. Н.М. Селиверстова. Изд. 2-е, стер. Санкт-Петербург: Наука, 2007. 360 с.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.: в 3 томах. Том 1: Структуры повседневности: возможное и невозможное/вступ. ст. и ред. Ю.Н. Афанасьева; пер. с фр. . Москва: Весь мир, 2007.
- Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре: Древность и средневековье: . Москва: Наука, 1979. 296 с.