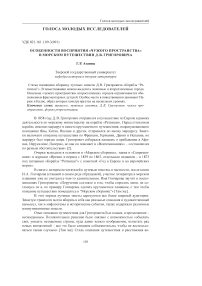Особенности восприятия "чужого пространства" в морском путешествии Д. В. Григоровича
Автор: Атаянц Гаяне Рафаеловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сборнику путевых записок Д. В. Григоровича «Корабль “Ретвизан”». В повествовании можно выделить значимые и второстепенные города. Описание «чужого пространства» второстепенных городов ограничивается обозначением фрагментарных деталей. Особое место в повествовании занимают Париж и Кадис, образ которых конструируется на нескольких уровнях.
Травелог, путевые заметки, д. в. григорович, чужое пространство, формы репрезентации
Короткий адрес: https://sciup.org/146122072
IDR: 146122072 | УДК: 821.161.1.09-3(091)
Текст научной статьи Особенности восприятия "чужого пространства" в морском путешествии Д. В. Григоровича
В 1858 году Д. В. Григорович отправился в путешествие по Европе в рамках деятельности по морскому министерству на корабле «Ретвизан». Перед отплытием корабль изменил маршрут и вместо кругосветного путешествия, подразумевающего посещение Явы, Китая, Японии и других, отправился по иному маршруту. Заметки включают описание путешествия по Франции, Германии, Дании и Испании, но маршрут был гораздо шире. Григорович собирался написать о пребывании в Афинах, Иерусалиме, Палермо, но как он поясняет в «Воспоминаниях» – «остановился по разным обстоятельствам» [2].
Очерки выходили в основном в «Морском сборнике», также в «Современнике» и журнале «Время» в период с 1859 по 1863, отдельным изданием – в 1873 под заглавием «Корабль “Ретвизан”» с пометкой «Год в Европе и на европейских морях».
В связи с интересом читателей к путевым текстам, в частности, после книги И. А. Гончарова (ставшей в своем роде образцовой), участие литератора в морском плавании уже не считалось чем-то удивительным. Имя Гончарова звучит в воспоминаниях Григоровича: «Поручение состояло в том, чтобы спросить меня, не соглашусь ли я, по примеру Гончарова, сделать кругосветное плавание, с тем чтобы описание путешествия помещалось в “Морском сборнике”» [Там же].
В этот период путевые тексты адресуются все более широкой аудитории. Зачастую травелоги могли вбирать в себя как реальные описания и художественный вымысел, так и мифологемы и исторические события, также содержали различные коммуникативные модели.
Опыт описания путешествия для Григоровича был новым, а предложение – неожиданным. Положительное решение было связано с возможностью «объехать свет, увидеть незнакомые страны, куда давно влекло воображение, испытать ряд новых впечатлений – все это было слишком соблазнительно, чтобы не воспользоваться таким случаем» [Там же]. Стиль описания путешествия и расстановка ак- центов напрямую связаны с мотивом и целью путешествия. В данном случае путешественник повествует о членах команды, о немногочисленных приключениях на воде, некоторые детали из жизни тех, с кем познакомился на корабле, и собственно об укладе и быте городов, которые удается посетить.
В повествовании можно выделить города значимые и второстепенные для путешественника. Описание второстепенных укладывается в рамки объективного повествования. Они упоминаются вскользь, в основном подмечается какая-то деталь или особенность. К городам значимым следует отнести Париж и Кадис.
Освоение «чужого пространства» в литературе путешествий может включать самые различные формы репрезентации. Для Григоровича таким инструментом является уподобление неизвестного знакомому, что является вполне закономерным явлением для литературы путешествий. А. Эткинд в «Толковании путешествий» утверждает: «Другое уподобляется своему, новое старому, неизвестное известному. Реальность бывает так отлична, что не влезает в рамки восприятия» [4, с. 14].
Универсальным мерилом для описаний Д. В. Григоровича оказывается Петербург. Устройство многих городов и их особенности передаются именно в сравнении со знакомым Петербургом. В основном такой прием используется в отношении городов, которые относятся к второстепенным. В большинстве случаев выделяются архитектурные сооружения, способы передвижения или какие-то детали города. Так, станция в Киле «приводит на память Петербург и его станцию петергофской железной дороги» [1, с. 232], именно в сравнении она оказывается «лучше станции петергофской» [Там же, с. 233]. В Севилье примечательным оказывается «фургон, напоминавший наружной своей формой старые омнибусы, срамившие когда-то Невский проспект, был по внутреннему своему устройству еще неудобнее последних» [Там же, с. 427]. Сад Тиволи в Копенгагене – «то же, что минеральные воды в Петербурге», хотя «по меньшей мере, в десять раз больше сада минеральных вод» [Там же, с. 261].
Совсем иначе строится повествование о городах значимых – Париже и Кадисе. Конструирование образа города строится на описаниях как открытых и закрытых пространств, духовно-культурной сферы, литературных произведений и памятников искусств и социальных и религиозных идей. Восприятие города происходит на нескольких уровнях.
Первое упоминание Парижа возникает в диалоге с собеседником, который настоятельно рекомендует отправиться в путешествие: «Главное то, что корабль зайдет поочередно во все порты Европы; из Кронштадта он отправится в Копенгаген, оттуда в Шербург (заметьте: рукой только подать до Парижа!)» [Там же, с. 150]. Восклицательный знак после упоминания Парижа – указание на что-то значимое и даже грандиозное. Можно истолковать это в нескольких смыслах: либо это связано с восприятием Парижа в России, мифом о Париже, мифе о городе, где царит праздник. Либо такая постановка знака связана с индивидуальным авторским восприятием.
Незадолго по путешествия Григорович познакомился с Александром Дюма. Дюма-старший побывал в июне 1858 года в Петербурге, Дюма особенно сблизился с Григоровичем, который стал «его постоянным гидом <…> и подробно знакомил его со всеми вопросами, связанными с русской литературой и русскими писателями» [3, с. 35].
Эта встреча повлияла и на формирование самого благоприятного мнения о Париже. Более того, Григорович обучался французскому с ранних лет и знал его до определенного момента чуть ли не лучше русского. Множественные упоминания о Париже свидетельствуют о том, что город является для автора чем-то большим, нежели остальные города: «Прежде еще, чем думал я когда-нибудь быть в Париже, я знал его, как свои пять пальцев, знал лучше даже Петербурга» [1, с. 308]. В данном аспекте проявляется принципиальное отличие от восприятия Кадиса, который тоже является значимым пространством. Мнение о Париже сформировалось до его посещения, поэтому при столкновении с действительностью путешественник разочаровывается. Отношение к городу меняется в противоположную сторону после его посещения, но Париж по-прежнему остается значимым для путешественника: «Я въезжал в Париж с самым веселым, певучим настроением духа, уезжал я из него, ощущая в душе недовольное, разочарованное чувство. Тем не менее, при расставании, когда город начал постепенно исчезать и теряться в вечернем тумане, – я дал себе слово непременно туда вернуться при первом удобном случае» [Там же, с. 351].
Говоря о нескольких уровнях восприятия города, стоит отметить контраст между Парижем в представлениях путешественника и действительным, характеризующимся низкими нравами. Впечатления о городе соответствуют пафосу последующего описания французов, по словам путешественника: «Характер французов решительно ставит в тупик; не знаешь, чему больше удивляться, силе или слабости. <…> или мелочности, соединенной со страшной непоследовательностью и легкомыслием; нравственная эта мозаика отражается во всем: в истории народа и самой его жизни. <…> у французов великая эта мысль часто оканчивается ничем, пшиком» [Там же, с. 314]. Париж неоднороден и насыщен, потому – необъятен: «Париж тем хорош для праздного человека, что последний может составить себе программу увеселений не только на день, но вперед на целую неделю.» [Там же, с. 316]. Он одушевлен, но не в традиционном понимании, связанным с олицетворением. Человеку оказывается сложно устоять перед атмосферой постоянного праздника, царящего в Париже. Чрезмерная роскошь затмевает все естественное и чистое: «Так уж следует, видно, что в Париже везде должна господствовать внешность! В церкви Богоматери, точно так же, как и в Лувре <…> наружный вид обещает больше, чем дает внутренность. Церковь, под руками тупоумных распорядителей и реставраторов, совершенно утратила поэтический колорит древности; впечатление такое, как будто рассматриваешь древнюю Библию, пергаментные листы которой покрыли мелом – для чистоты – и расписывали почерком современной каллиграфии.» [Там же, с. 327].
Город поглощает людей и подавляет их: «Во всем городе не существует ничего, что бы успокаивало дух и давало уму простого человека трезвое, здоровое настроение» [Там же, с. 316]. Автор упоминает о множестве русских, которые быстро свыкаются образом жизни в Париже: начинают картавить уже через пару месяцев, и не могут обойтись и дня без сахарной воды по утрам.
Другая особенность описания города – характер и нравы парижан. Одна из ключевых деталей, занижающая образ города и отталкивающая путешественника. Автор обращается к нравам в попытках «сказать что-нибудь новое. <…> Париж особенно такой город, что каждый прожитой в нем день может дать материалу на целый том в нравоописательном роде.» [Там же, с. 328]. По той же причине автор ограничивается несколькими словами об архитектурных сооружениях других достопримечательностях города.
Еще один аспект восприятия – Париж литературный. Во-первых, как и для многих авторов путешествий, «чужое пространство» для Д. В. Григоровича – прецедентные имена и тексты. Описание Парижа связано не только с Александром Дюма и Дюма-сыном. Путешественнику при виде Собора Парижской Богоматери вспоминается В. Гюго, возникают живые образы Эсмеральды, Квазимодо, Клода Фролло. В целом в тексте цитаты работают на нескольких уровнях – буквальное воспроизведение в тексте (например, автор ссылается на тексты Гейне в описании Гамбурга), которое встречается реже, и воспроизведение коллизий и мнений писателей, которые являются ключевыми для литературного истолкования той или иной страны.
Дом Дюма, где остановился Григорович становится некой метафорой Парижа: «На всем следы роскоши, страшной неряшливости, и всюду великолепные затеи, остановленные при самом начале. <…> Дюма устроил маленький зимний сад: зеленый трельяж на стенах, вьющийся плющ, тропические растения и посреди них бронзовая статуя Аполлона – все это очень мило; но пол сгнил и во многих местах обвалился. <…> Дюма отделал этот дом для какого-то праздника; с тех пор он больше о нем не заботится…» [Там же, с. 310–311].
Во-вторых, это ряд писателей, с которыми Д.В. Григорович знакомится благодаря Дюма-сыну; он не называет имен – это сплошная череда инициалов: «Отчего не прибегнуть бы вам к защите Г. или Д.? (Я назвал двух фельетонистов, сидящих на плечах редактора той revue , где работал Б.)» [Там же, с. 331]; «Вас желает видеть месье В. П.» [Там же, с. 332] и т. д. В большинстве случаев путешественник представляет их весьма талантливыми литераторами и писателями, однако несчастными, готовыми вырваться из Парижа. Такая обезличенность персонажей, объединенных схожими бедами подчеркивает ничтожность человеческой натуры, не выносящей могущества Парижа.
Разочарованный Парижем, Д. В. Григорович отправляется в Кадис, который вызывает абсолютно противоположные эмоции. Кадис предстает замечательным местом: «<…> это был Кадис! Сильнее билось сердце при одной мысли, что еще несколько часов – и будем гулять по его улицам» [Там же, с. 357]. Вполне условно, но можно говорить о бегстве из Парижа, после которого познание нового пространства формирует противоположное мнение: «Не помню, чтобы когда-нибудь так нетерпеливо рвался я к берегу.» [Там же]. Здесь на первый план выходит ландшафт города и как и нравы в Кадисе, высоко оценивается автором: «Не знаю, новизна ли впечатлений тому способствовала, но вообще, сколько ни припоминаю городов, виденных потом в Европе и на Востоке, – ни один до сих пор не кажется мне красивее Кадикса!» [Там же, с. 359]. На фоне разочарования в Париже Кадис возвышается.
Особое место в повествовании занимают, дамы, которые поражают одновременно красотой и нравственностью: «Здесь, впрочем, все дамы, все донны – без различия званий и состояний» [Там же, с. 363]; «Нигде ничего не видал подобного женщинам Кадиса» [Там же, с. 373].
Однако в Париже есть что-то мистическое и притягательное для путешественника: «…нет человеческой возможности исчерпать Париж до дна и разом показать его со всех сторон, так, чтобы в одно и то же время бросились в глаза лицевая сторона и изнанка» [Там же, с. 350]. Несмотря на непонятное автору состояние нравов и недоступное пониманию состояние праздника, Париж кажется не таким, как прочие города, а особым пространством, так и оставшимся «чужим».
Tver State University the Department of History and Theory of Literature
Список литературы Особенности восприятия "чужого пространства" в морском путешествии Д. В. Григоровича
- Григорович Д. В. Корабль «Ретвизан»//Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Корабль «Ретвизан». Из записной книжки. М.: Захаров, 2007. 560 с.
- Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М.: Худож. лит., 1987. //Lib.ru/Классика. URL: http://az.lib.ru/g/grigorowich_d_w/text_0140.shtml. (Дата обращения: 23.08. 2017.)
- Коган Э. Р. Александр Дюма на Ладожском озере//Встречи с прошлым. Сборник неопубликованных материалов ЦГАЛИ СССР. Вып. 2. М.: Сов. Россия, 1974. 397 с.
- Эткинд А. М. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.: Новое лит. обозрение, 2001. 496 с.