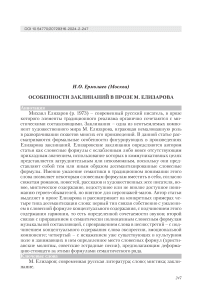Особенности заклинаний в прозе М. Елизарова
Автор: Ермолаев И.О.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
Михаил Елизаров (р. 1973) - современный русский писатель, в прозе которого элементы традиционного реализма органично сочетаются с мистическими составляющими. Заклинания - одна из неотъемлемых компонент художественного мира М. Елизарова, играющая немаловажную роль в разворачивании сюжетов многих его произведений. В данной статье рассматриваются формальные особенности фигурирующих в произведениях Елизарова заклинаний. Елизаровские заклинания определяются автором статьи как словесные формулы с ослабленным либо вовсе отсутствующим прикладным значением, использование которых в коммуникативных целях представляется затруднительным или невозможным, поскольку они представляют собой тем или иным образом десемантизированные словесные формулы. Именно умаление семантики в традиционном понимании этого слова позволяет некоторым словесным формулам вместить в себя, согласно сюжетам романов, повестей, рассказов и художественных эссе писателя, новое, мистическое содержание, недоступное или не вполне доступное пониманию героев-обывателей, но внятное для персонажей-магов. Автор статьи выделяет в прозе Елизарова и рассматривает на конкретных примерах четыре типа десемантизации слова: первый тип связан собственно с умалением в словесной формуле концептуального содержания, с подчинением этого содержания гармонии, то есть определенной сочетаемости звуков; второй связан с приращением к семантически полноценным словесным формулам музыкальной составляющей, с превращением слова в песню; третий - с подчинением концептуального содержания слова экспрессии, эмоциональной компоненте; четвертый - с искажением уже существующих в культурном поле и занимающих в нем определенное место словесных формул (христианские молитвы, советские эстрадные песни), предполагающим деформацию стоящего за этими формулами семантического ряда.
М. елизаров, современная русская литература, слово, мистика, заклинание
Короткий адрес: https://sciup.org/149146226
IDR: 149146226 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-247
Текст научной статьи Особенности заклинаний в прозе М. Елизарова
Во многих произведениях мировой литературы слово выступает в качестве не только инструмента, но и объекта изображения. Почти каждый писатель уделяет значительное внимание речевой характеристике персонажей, помогающей глубже и полнее раскрыть их внутренний мир. У некоторых авторов важной функцией слова является также сюжетообразующая. Например, в «Илиаде» Гомера «грозное слово», адресованное Агамемноном Хрису, становится первопричиной последующих эпических событий, а в «Путешествии на край ночи» Л.-Ф. Селина неосторожная реплика отправляет Бар-дамю на мировую войну. Печатное слово переворачивает жизнь сервантесовского Дон Кихота, а слова в одноименной повести Ж.-П. Сартра оказываются для героя единственным средством структурирования хаотичной реальности.
Существуют литературные произведения, в которых слову помимо прикладного значения приписывается также значение метафизическое или мистическое. Слово, согласно одноименному стихотворению Н. Гумилева, не умещается «в скудные пределы естества», представляет собой нечто тревожащее и в конечном счете попирающее естественный порядок вещей: словом, по Гумилеву, «разрушали города» и «останавливали солнце». Отталкиваясь от строк этого стихотворения, философ культуры М. Вербицкий в эссе «Провозглашение ур-реализма» говорил о слове как о «субстанции истинного мира», противолежащего «ложному миру материальности» [Вербицкий 2019, 234–235], как о «единственной связи между миром истинным и миром материальным» [Вербицкий 2019, 235] и обнаруживал сходство представлений поэта-акмеиста с оккультным учением О. Спейра.
Концепция слова, получившая оформление в работе Вербицкого, находит весьма точное отражение в прозе Михаила Елизарова. Творчество этого писателя пользуется заслуженным интересом ученых-литературоведов, научному освещению различных его аспектов посвящены многие исследовательские работы. Так, к рассмотрению нравственной проблематики прозы Елизарова обращаются Н. Федченко [Федченко 2012] и Д. Юрьев [Юрьев 2016], проблема интертекстуальности в произведениях писателя раскрывается в статьях Ю. Доманского [Доманский 2021a; Доманский 2021b] и Г. Шостака [Шостак 2018], отношение прозаика к советскому духовному наследию становится предметом исследований Б. Ханова [Ханов 2016, 95–109, 157–171] и А. Чэнь [Чэнь 2014]. Некоторое внимание уделяется филологами и мистической компоненте елизаровской прозы: Т. Агаджанова, М. Юрьева [Агаджанова, Юрьева 2020] и В. Павлюкова [Павлюкова 2016] рассматривают в контексте поэтики (нео)мифологиз-ма повесть «Ногти», А. Аствацатуров пишет об архаическом ритуале как о «суперструктуре, сводящей воедино все линии повествования» [Астваца-туров 2022, 153] рассказа «Мы вышли покурить на 17 лет». Однако, признавая весомый вклад названных ученых в научное освоение елизаровского творчества, нельзя не отметить, что именно мистика в качестве одной из доминант последнего до сих пор не получила внимания, сообразного ее значению. Настоящая статья представляет собой попытку рассмотреть одно из частных и ранее не привлекавшихся к исследованию проявлений мистического плана прозы Елизарова. Речь идет о заклинаниях – монадах того «истинного мира», о котором подробно говорится в эссе Вербицкого.
В различных произведениях Елизарова слово и его производные предстают не просто элементами сюжета, разворачивающегося в обыденном мире (том, который Вербицкий называет «ложным миром материальности»), но также своего рода приемниками, обеспечивающими связь персонажей с миром мистическим. Именно такие речевые конструкции и можно определить как заклинания, то есть, согласно «Большому толковому словарю русского языка», «словесные формулы, <…> которые <…> обладают магическими свойствами» [Кузнецов 2000, 326].
В художественном мире Елизарова основной характеристикой, отличающей заклинания от других словесных формул и выделяющей их в особую категорию речевых конструкций, является их полная или почти полная оторванность от прагматики, полное или почти полное отсутствие у них прикладного значения. Другими словами, заклинания у Елизарова неизменно оказываются словесными формулами, которые человеку затруднительно или вовсе невозможно использовать в коммуникативных целях, – они бессмысленны, явственно тяготеют к бессмысленности либо утрачивают привычный смысл в создаваемых писателем контекстах. Именно обособившись от означаемого (от смысла) означающее (словесная форма) взамен него вмещает в себя мистическую сущность и таким образом делается заклинанием. «…Когда исчезает его [слова] смысл, то в порожней оболочке поселяется призрак» [Елизаров 2019, 130], – герою рассказа «Рафаэль», поставленному перед необходимостью ежедневно воспринимать множество слов малознакомого ему русского языка, постижение этой максимы дается само собой. «Слово малопонятное или же вообще непонятное» в эссе «“Левша”. Сказ о русском одолении» определяется Елизаровым как «магическое» [Елизаров 2023a, 278]. Это замечание объясняет, в числе прочего, завороженность Глостера, героя повести «Ногти», абсурдистским двустишием Я. Акима и симпатию самого Елизарова к лирике носовского Незнайки: в эссе «“Незнайка” и проблема “лишнего человека” при коммунизме» «парадоксальное и конспирологичное» [Елизаров 2023а, 41] творчество не признанного коротышками стихослагателя оценивается автором гораздо выше, чем «формальная логика» [Елизаров 2023а, 41] официального Цветика.
Ни акимовское («Двери распахнул отец: – Получайте огурец!»), ни Незнайкино («Наш Сиропчик был голодный, проглотил утюг холодный») произведения не рассматриваются Елизаровым как заклинания, однако по отношению ко многим заклинаниям, фигурирующим в художественном мире Елизарова, эти тексты можно считать прототипическими. В том и в другом доминантой оказывается не «формальная логика», ориентированная на создание интеллигибельных смыслов, а гармония, то есть определенная слаженность звуков. В том и в другом налицо попытка автора подойти к созданию литературного произведения так, как если бы это было произведение музыкальное, перейти от работы с конкретными значениями к эксплуатации невербального, неартикулированного, иррационального.
По тому же принципу сведения слова к звуку, концепта к гармонии построена значительная часть упоминаемых в прозе Елизарова заклинаний. В первую очередь следует назвать те из них, что по форме полностью совпадают с рассмотренными выше дистихами Акима и персонажа Носова, то есть представляют собой короткие стихотворения, в которых формальная компонента преобладает над содержательной и в большой степени ее определяет. Именно таково заклинание «Немец с комплексом вины! Отвези нас до луны!» [Елизаров 2023b, 107] в рассказе «Ты забыл край милый свой». В этом двустишии смыслосодержащими оказываются только этноним (действие рассказа происходит в Германии) и императив «отвези нас» (герои прибегают к заклинанию, дабы облегчить себе ловлю попутного транспорта). Определение «с комплексом вины» отсылает к разговору, происходившему между героями незадолго до сложения закли- нания, однако в самом заклинании содержание этого разговора («У них [немцев] вообще-то перед русскими комплекс вины. Стараются помогать» [Елизаров 2023b, 107]) не эксплицируется, так что в контексте заклинания определение предстает семантически пустым. Обстоятельство «до Луны» и вовсе не выдерживает проверки «формальной логикой»: во-первых, автомобили не приспособлены для космических путешествий, во-вторых, сами герои нуждаются в том, чтобы их подвезли не до Луны, а всего лишь до города Касселя. Очевидно, включение этого обстоятельства в текст заклинания продиктовано прежде всего необходимостью подбора рифмы к словоформе «вины», использование которой, как было показано выше, с обыденной точки зрения тоже не является мотивированным.
Сходным образом устроены заклинания, фигурирующие в рассказе «Кубики», романе «Земля» и эссе «Колобок». В «Колобке» заклинание, дублирующее песенку героя одноименной народной сказки, представляет собой текст, воспроизведение которого в коммуникативной ситуации приводит к коммуникативной неудаче, при этом сам он отмечен присутствием рифмы, лексического повтора и синтаксического параллелизма. Заклинание из романа «Земля» – «Гвоздь могильный в порог вбиваю, болезнь лютую в тело раба (имя) сажаю!» [Елизаров 2020а, 480] – представляет собой дистих с глагольной рифмой, а в «Кубиках» приемами, вносящими дополнительный акустический эффект в бессмысленный, зато ритмизованный магический текст – «Ой, как мячиком, как мальчиком расту» [Елизаров 2023b, 129], – становятся ассонанс и аллитерация.
В рамках художественного мира Елизарова в одном ряду с перечисленными микротекстами стоят стихотворения Б. Пастернака. В романе «Pasternak» корпус лирики русского классика предстает в качестве свода заклинаний, причем наличие в произведениях поэта мистической составляющей подкрепляется, по Елизарову, именно бессмысленностью этих произведений, готовностью их автора жертвовать концептами ради достижения желаемой гармонии. Один из героев романа, Сергей Цыба-шев, определяет пастернаковское наследие как «стилистический бардак», «языковой хаос» и, наконец, «глумления над смыслом» [Елизаров 2003, 190–191]. Цыбашев замечает: «Стихи [Пастернака] обладали какой-то радиоактивной особенностью облучать внимание. После прочтения оставалось образное марево, дурманящий поэтический туман» [Елизаров 2003, 187].
Помимо стихотворных заклинаний в произведениях Елизарова фигурируют заклинания прозаические, однако при ближайшем рассмотрении некоторые из них обнаруживают те же самые свойства, что и стихотворные. Заклинание в рассказе «Белая» может быть названо нерифмованным стихотворением из трех строф, каждая из которых характеризуется наличием четкого ритма и синтаксическим параллелизмом («Первое мое имя Белая – во мне Свет. <…> Двенадцатое мое имя Трупная – во мне Смерть» [Елизаров 2023b, 284–285]; «женился урод на одной жене, <…> женился урод на двенадцати женах» [Елизаров 2023b, 285]), а третья – ещё и яркой парадоксальной образностью («первая – наружу гнутый гвоздь Наталья,
<…> двенадцатая – костная мука Кристина» [Елизаров 2023b, 285–286]). Этот текст, произнесение которого сопровождает брачный ритуал, с обыденной точки зрения является бессмысленным, никак не соотносящимся с реальностью, потому что с той же обыденной точки зрения «урод» женится по сюжету рассказа всего на одной «жене»; абсурдности и, соответственно, чистой музыкальности добавляют словесной формуле гротескные титулы учтивости, грамматически не согласующиеся с именами мистических «жен»: «снесли гаражи Анна, <…> бинты по рубль тридцать Надежда, <…> черви завелись в зубах Евгения…» [Елизаров 2023b, 286]. Синтаксическими параллелизмами и лексическими повторами изобилует также заклинание, сопровождающее обряд в рассказе «Импотенция». В одном из фрагментов этого магического текста, написанного ритмизованной прозой, появляются рифмы («…на том булатном престоле гробница, в этой гробнице девица-мертвица держит меч, Импотенцию сечь, колючую, ползучую, растучую, летучую…»), финал текста подчеркнуто абсурден («Небо – ключ, земля – замок, а ключ в воду бросил!» [Елизаров 2023b, 256]), а весь текст целиком представляет собой описание будто бы никогда не имевшего место мистического опыта творящей заклинание четверки друзей. В рассказе «Нерж» в качестве заклинаний выступают отдельные слова и словосочетания, употребление которых в описываемой автором коммуникативной ситуации с обыденной точки зрения могло бы быть расценено как вокальный тик, если бы они не произносились персонажем-магом лишь мысленно, а в рассказе «Кубики» магическими свойствами наделяется междометие «Крш-ш, Крш-ш» [Елизаров 2023b, 129], обладающее, как и все лексемы, относящиеся к этой части речи, неопределенной семантикой.
Перечень заклинаний подобного типа заключает «Гностическiй Пись-мовникъ», созданный героиней романа «Земля», жрицей Алиной. От всех остальных рассматриваемых в настоящей работе магических формул «Письмовникъ» отличается тем, что носит характер не просто текста, а гипертекста. Труд Алины является суперструктурой, из элементов которой желающий может самостоятельно составить почти неограниченное количество собственных заклинаний. Сам гипертекстуальный характер «Письмовника» недвусмысленно указывает на принцип, общий для всех заклинаний соответствующего типа, – принцип умаления в лексических единицах строго концептуальной и выведения на первый план формальной составляющей. В комментариях к своему труду Алина прямо говорит о том, что заклинания, создаваемые по ее рецептам, «требуют напыщенных слов» [Елизаров 2020а, 481] и при этом в значительной степени «представляют собой набор бессмысленных псевдопарадоксов» [Елизаров 2020а, 483]. В основной, собственно гипертекстовой части «Письмовника» приводится множество магических заготовок, некоторые из которых по сложносостав-ности и неудобопонимаемости напоминают скальдические кеннинги [Гуревич, Матюшина 1999]: «по ту Сторону Пропасти Хлада Зловония, где Скверна Предвечного Окутывает Личины Запретного, из Тьмы Пляшущих под Небесами Проклятых…» [Елизаров 2020а, 484] и т.п.
Установка на музыкальность, на преобладание гармонии перед концептом, звука перед смыслом является обязательной для всех заклинаний, присутствующих в прозе Елизарова, однако реализовываться эта установка может по-разному. Десемантизация самого слова, продемонстрированная в приведенных выше примерах, – лишь один из нескольких способов достижения необходимого персонажам мистического эффекта. Другим таким способом оказывается приращение к семантически полноценному слову собственно музыкальной составляющей, претворение слова в песню. В составе песни слову приходится адаптироваться к мелодии, ритму, голосу, инструментальной компоненте, то есть вербальное и артикулированное попадает в подчинение к неартикулированному и невербальному. В рассказе «Рафаэль» соответствующий процесс описывается на примере песни О. Газманова «Офицеры»: «…“офицеры-офицеры” давно не мужчины, а просто жалоба из звуков» [Елизаров 2019, 130]. Осознание этого позволяет герою рассказа не задумываясь напевать за работой центонный «гибрид двух разнополых песен» [Елизаров 2019, 130]: «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, и дождей грибных серебряные нити» [Елизаров 2019, 130]. Жанровая принадлежность стирает смысловые различия между шлягером Газманова и песней А. Пугачёвой «Расскажите, птицы»: то и другое – произведения в первую очередь музыкальные, природа обоих – акустическая par excellence, то есть подчеркнуто антисемантическая.
Те же замечания относятся к песням, выступающим в произведениях Елизарова непосредственно в качестве заклинаний: советской эстраде в романах «Земля» и «Библиотекарь», «похабной песенке» [Елизаров 2020а, 619] в том же романе «Земля», «Песенке об Арбате» Б. Окуджавы в эссе «Мой Арбат». Это хорошо видно на примере восприятия героем «Библиотекаря», Алексеем Вязинцевым, песни из художественного фильма Н. Мащенко «Как закалялась сталь»: «жертвенная отвага юного голоса» [Елизаров 2012, 215] затмевает в сознании Вязинцева текст Р. Рождественского. Показательно и то, что, перечисляя авторов некоторых песен-заклинаний, герой называет фамилии «Пахмутовой, Крылатова или Френкеля» [Елизаров 2012, 418], то есть не поэтов, а композиторов. В случае с «похабной песенкой», используемой в качестве заклинания персонажем «Земли» Володей Кротышевым, мистический эффект, аналогичный производимому советскими песнями в «Библиотекаре», усиливается эффектом, описанным в предыдущих абзацах и связанным с облегчением смысловой нагрузки самог о звучащего слова: «песенка» представляет собой текст не только положенный на музыку, но еще и эксплуатирующий прием сдвига, то есть омонимии и вытекающей из нее семантической амбивалентности словосочетаний.
Функция, которую в заклинаниях-песнях выполняет музыкальная компонента, в некоторых других упоминаемых Елизаровым заклинаниях возлагается на компоненту чисто эмоциональную. Слова, предложения и объемные тексты, сами по себе ничуть не менее осмысленные, чем стихи Р. Рождественского, Н. Добронравова или М. Матусовского, обрамляются эмоциями произносящих их людей подобно тому, как названные стихи об- рамляются музыкой. Эмоция, полностью захватывающая говорящего, довлеет над концептуальным смыслом произносимого, начинает пользоваться словами как пустой десемантизированной формой, могущей служить исключительно для ее выражения. Один из персонажей романа «Pasternak», отец Григорий, замечает: «Неспроста даже в церквях пономари читали чувственные библейские псалмы, не интонируя. Единственная возможность донести смысл молитвы не искаженным – это бесстрастное чтение» [Елизаров 2003, 182]. Соответственно, исключительно страстное озвучивание отдельных реплик в рассказе «Заклятье» и целых монологов в повести «Госпиталь» приводит не просто к искажению, а к аннигиляции смысла.
Еще одна форма, которую принимают у Елизарова заклинания, – словесные формулы, уже существующие и занимающие вполне определенное место в культурном поле, хорошо знакомые героям, но преднамеренно ими искажаемые. В этом случае речь идет необязательно о десемантизации слова как такового, но непременно о разрушении конкретной семантической структуры в силу известного говорящему контекста, стоящего за той или другой формулой. Именно по такому принципу устроены некоторые заклинания, упоминаемые в рассказах «Жертва», «Кубики» и «Украденные глаза», а также в романах «Pasternak» и «Земля». Весьма характерно, что большинство этих заклинаний представляет собой вариацию на тему текстов, имеющих отношение к области сверхъестественного: в «Жертве», «Украденных глазах» и «Земле» магические словесные формулы отсылают к христианским молитвам и богословским фразам, а в «Кубиках» к советским эстрадным песням – в художественном мире Елизарова последние, как и все советское, наделяются мистическим содержанием.
В «Жертве» и «Кубиках» деформация претекста происходит путем простого усечения: в первом случае от тринитарной формулы («во имя Отца и Сына и Святого Духа») остается кощунственное с точки зрения христианской догматики «во имя Отца и Сына» [Елизаров 2020b, 186]; во втором строки «спят усталые игрушки» (из одноименной песни А. Островского на слова З. Петровой) и «скатертью, скатертью дальний путь стелется» («Голубой вагон», В. Шаинский – Э. Успенский) сокращаются до «спят усталые» [Елизаров 2023b, 128] и «скатертью, скатертью дальний путь» [Елизаров 2023b, 128]. Возможно, что приводившееся выше заклинание «ой, как мячиком, как мальчиком расту» также может рассматриваться в этом ряду, представляя собой почти до неузнаваемости деформированный припев советской «Песни о мальчишках» (Т. Хренников – М. Мату-совский). В «Украденных глазах» претекст деформируется по принципу подражания, пародии. Никейский Символ веры читается героем, Андреем Малышевым, на два голоса: «Малышев, к примеру, читает: – Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, – а голос говорит: – Не веруй, не веруй! Малышев говорит: – Аминь, – а голос возражает: – Не аминь, не аминь!» [Елизаров 2023b, 237] Согласно Елизарову, «возражающий» голос принадлежит не самому Малышеву, а подселившейся в его тело, враждебной ему мистической сущности, однако обнаружение этой сущности как реально существующей, вызывание ее из мистического мира в обыденный как раз и является промежуточной целью ритуала, включающего в себя творение псевдо-Никейского заклинания. Краткая молитва об усопших («упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имярек)») адаптируется в том же рассказе к чтению за живых людей – с позиций христианства это, во-первых, абсурд, а во-вторых, смертный грех. Аналогичным образом интерпретируется православными персонажами романа «Pasternak» лирика Пастернака, уже рассматривавшаяся в настоящей работе в несколько ином контексте: отец Григорий называет ее «литургией, только повторенной на свой лад автором» (курсив наш. – И.Е.) [Елизаров 2003, 181], Цыбашев – «рифмованными пересказами Евангелия» (курсив наш – И.Е.) [Елизаров 2003, 213]. Иная стратегия работы авторов заклинаний со священными текстами христиан демонстрируется в романе «Земля». Жрица Алина, подобно реально существующим сатанистам, включает в магические формулы собственного изготовления фрагменты христианских молитв, произносимые от конца к началу: «Отче наш» трансформируется в «Шан Ечто», «аминь» – в «нима». Один из постов Алины в «Живом Журнале» представляет особый интерес – это единственное в прозе Елизарова указание на то, что претекст заклинания, устроенного по принципу искажения общеизвестного текста, не обязан носить сакральный характер: «Берем скороговорку: “Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила”; записываем наоборот: “Акшым кешус алишусан, акшим кешим алисалгирп”; транскрибируем латиницей: “Akshim keshus alishusan akshim keshim”. И voila – заклинание на языке мертвых!» (курсив – И.Е.) [Елизаров 2020а, 486]. Несложно заметить, что приводимая Алиной «запись наоборот» содержит неточности, однако вопрос о том, являются они результатом невнимательности героини или частью ее не декларируемого в посте замысла, остается открытым.
Классификация заклинаний, фигурирующих в прозе Елизарова, неполна без включения в нее совершенно особой магической словесной формулы, представленной в рассказе «Старушки». В художественном мире данного произведения мистической силой обладает само упоминание «старушек» – колдуний бабы Дуни и бабы Наты. Принцип работы этого заклинания можно описать так: будучи озвучено, означающее (лексема «старушки») активирует мистическую силу, присущую означаемому (двум пожилым чародейкам), причем действие активируемой заклинанием мистической силы напрямую связано с абсурдизацией содержащей заклинание коммуникативной ситуации. По подобному принципу не работает больше ни одно из присутствующих у Елизарова заклинаний, но сам феномен непосредственной, до неразличимости, связи между словом и называемой им сущностью получает отражение не только в «Старушках»: герой рассказа «Украденные глаза» не может дочитать до конца «Отче наш», так как последнее слово молитвы («лукавого») называет того, кто не хочет, чтобы герой его называл.
Помимо заклинания из «Старушек» в общую классификацию упоминаемых Елизаровым заклинаний представляется затруднительным вписать магическую формулу, произносимую персонажем повести «Ногти» Сергеем Бахатовым. В тексте произведения эта формула не приводится, герой-рассказчик Глостер обозначает ее как «неизвестные слова» [Елизаров 2020b, 12], что может интерпретироваться двояко. Если «неизвестные» означает «непонятные» (Глостер слышит и различает слова, но не может соотнести их с привычным ему обыденным лексиконом), то бахатовское заклинание оказывается устроенным по принципу десемантизации слова, сведения его к чистому звуку; если же слова Бахатова «неизвестны» Глостеру потому, что просто не расслышаны им, исследователь сталкивается с проблемой нехватки данных для проведения анализа.
Подводя черту под рассмотрением форм, которые могут принимать заклинания в художественном мире Елизарова, нельзя не оставить к ранее высказанным соображениям уточняющий и в некотором смысле даже опровергающий их комментарий. Все эти соображения можно свести к тому, что заклинание в прозе Елизарова неизменно представляет собой слово с тем или иным образом ослабленной, размытой либо вовсе отсутствующей семантической составляющей, однако данный тезис безоговорочно верен лишь по отношению к семантике обыденной реальности. В мистической же реальности (очевидность существования которой декларируется в большей части елизаровских произведений) слова заклинаний могут иметь абсолютно точные, конкретные и объективные внеязыковые соответствия. Прямые указания на это содержатся в рассказах «Нерж» и «Кубики». В «Кубиках» описываются некоторые обстоятельства, при которых «произносить “спят усталые” категорически нельзя, потому что “усталые” уже “не спят”» [Елизаров 2023b, 128]; таким образом, обе составляющие заклинание словоформы не оказываются семантически пустыми наборами звуков, бессмысленными гармониями, но обладают вполне определенными означаемыми. Социолингвистическая проблема сводится в таком случае к тому, что эти означаемые недоступны восприятию обывателей, они открываются только персонажу-магу, мальчику Фёдорову. Те же замечания актуальны по отношению к магической формуле «красные ворота» [Елизаров 2023b, 152], фигурирующей в рассказе «Нерж». Данная формула, звучащая как вокальный тик для персонажей-обывателей, используется отцом Леонида, имеющим связь с мистическим миром, как обстоятельство места, обладающее топографически точным внеязыковым аналогом.
Таким образом, можно сказать, что заклинания предстают в прозе Михаила Елизарова в качестве словесных формул с ослабленным или вовсе отсутствующим прикладным значением. Использование их в коммуникативных целях затруднительно либо совершенно невозможно. В то же время именно умаление семантики в традиционном понимании этого слова позволяет данным словесным формулам вместить в себя новое, мистическое содержание, недоступное или не вполне доступное пониманию героев-обывателей, но внятное для персонажей-магов.
Список литературы Особенности заклинаний в прозе М. Елизарова
- Агаджанова Т.С., Юрьева М.В. Мифологизм повести Михаила Елизарова «Ногти» // Актуальные вопросы современной филологии: теория, практика, перспективы развития: Материалы V Международной научно-практической конференции. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2020. С. 186-190.
- Аствацатуров А.А. Архаический ритуал в творчестве Михаила Елизарова (на материале рассказа «Мы вышли покурить на 17 лет.») // Текст и традиция. Альманах. 2022. № 10. С. 153-173.
- Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб: Норинт, 2000. 1536 с.
- Вербицкий М. Провозглашение ур-реализма // Манифест. Современность глазами радикальных утопистов. 1963-2018. Искусство, политика, девиация. М.: Опустошитель, 2019. С. 229-238.
- Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М.: РГГУ, 1999. 752 с.
- (а) Доманский Ю.В. «Балабановский текст» в «Земле» Михаила Елизарова: к вопросу о функции «чужого» слова в современном романе // Челябинский гуманитарий. 2021. № 4 (57). С. 22-27.
- (b) Доманский Ю.В. «Летовский текст» в «Земле» Михаила Елизарова: к вопросу о слове рока в современном романе и о современном романе в аспекте включения в него рок-культуры // Русская рок-поэзия: текст и контекст. 2021. № S21. С. 82-91.
- Елизаров М.Ю. Pasternak: роман. М.: Ad Marginem, 2003. 296 с.
- Елизаров М.Ю. Библиотекарь: роман. М.: Ad Marginem, 2012. 432 с.
- (a) Елизаров М.Ю. Бураттини: эссе. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2023. 288 с.
- (b) Елизаров М.Ю. Скорлупы. Кубики: рассказы. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2023. 288 с.
- Елизаров М.Ю. Мы вышли покурить на 17 лет: рассказы. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2019. 256 с.
- (a) Елизаров М.Ю. Земля: роман. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2020. 784 с.
- (b) Елизаров М.Ю. Ногти: повести, рассказы. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2020. 496 с.
- Павлюкова В.И. Поэтика неомифологизма в повести М. Елизарова «Ногти» // Вестник бурятского государственного университета: Филология. 2016. № 1. С. 72-75.
- Федченко Н.Л. О нравственных доминантах прозы Михаила Елизарова (на примере романа «Библиотекарь») // Методический поиск: проблемы и решения. 2012. № 1 (12). С. 2-6.
- Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. М.: Русский язык, 2002. 214 с.
- Ханов Б.А. Концептуализация советского дискурса в современной русской прозе: дис.... к. филол. н.: 10.01.01. Казань, 2016. 216 с.
- Чэнь А. Роман «Библиотекарь»: альтернативное осмысление истории Советского Союза // Русский язык: человек, культура, коммуникация - IV: Сборник
- материалов Международной научной конференции. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. С. 168-178.
- Шостак Г.В. Рецепция советских песен в творчестве Михаила Елизарова: интертекстуальные заимствования // Русская рок-поэзия: текст и контекст. 2018. № 18. С. 216-225.
- Юрьев Д.Ю. Проза Михаила Елизарова (поэтика и нравственная проблематика): автореф. дис.... к. филол. н.: 10.01.01. Краснодар, 2016. 22 с.