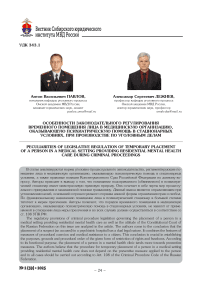Особенности законодательного регулирования временного помещения лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, при производстве по уголовным делам
Автор: Павлов А.В., Дежнев А.С.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 2 (59), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие помещение лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу. Авторы приходят к выводу о том, что помещение подозреваемого (обвиняемого) в психиатрический стационар имеет межотраслевую правовую природу. Она сочетает в себе черты мер процессуального принуждения и медицинской помощи гражданину. Данный вывод является определяющим при установлении целей, оснований и процессуального порядка данной формы ограничения прав и свобод. По функциональному назначению помещение лица в психиатрический стационар в большей степени тяготеет к мерам пресечения. Авторы полагают, что порядок временного помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, не зависит от применяемой в отношении лица меры пресечения и во всех случаях должен осуществляться в соответствии со ст. 108 УПК РФ.
Временное помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, заключение под стражу, меры пресечения, иные меры процессуального принуждения
Короткий адрес: https://sciup.org/140310197
IDR: 140310197 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Особенности законодательного регулирования временного помещения лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, при производстве по уголовным делам
П ринцип неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве предусматривает гарантии не только при задержании и заключении лица под стражу, но и в случае его помещения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ч. 2 ст. 10 УПК РФ). Правовое регулирование данной формы ограничения права на свободу и личную неприкосновенность развивалось циклично. В период действия УПК РСФСР подозреваемый (обвиняемый) с санкции прокурора помещался в медицинское учреждение для производства судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях, о чем указывалось в постановлении о назначении экспертизы (ст. 188)1. После проведения судебно-психиатрической экспертизы лица, содержащиеся под стражей, возвращались в следственный изолятор. Они переводились из обычной камеры в медицинскую часть, где получали психиатрическую помощь [6, с. 95-100]. В ином случае лицо, страдающее психическим расстройством, подлежало недобровольной госпитализации2. В теории уголовного процесса обращалось внимание на необходимость определения меры государственного принуждения в отношении данного лица, полагая, что меры пресечения в указанных обстоятельствах не учитывали особенности его личности. В частности, было предложено ввести меру пресечения в виде
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. N 40. Ст. 592. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании : Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1.
передачи лица, под присмотр близких родственников [8, с. 48].
В УПК РФ впервые была предусмотрена возможность помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, не только в целях проведения судебной экспертизы (ст. 203 УПК РФ), но и для обеспечения дальнейшего производства применения принудительных мер медицинского характера. В юридической литературе отмечалось, что ст. 435 УПК РФ слишком лаконична и не содержит ответов на ряд вопросов: каковы цели госпитализации, в какие психиатрические стационары надлежит помещать госпитализированных (обычные или специализированные), каково их правовое положение и ряд других. Не имея на них ответов, применять данный порядок крайне затруднительно [12, с. 32]. А.В. Кудрявцева констатировала невозможность в некоторых случаях поместить лицо в медицинское учреждение для оказания ему психиатрической помощи [6, с. 95-100]. Высказывались предложения о дополнении норм УПК РФ, регулирующих помещение лица в психиатрический стационар, положениями об основаниях и целях такого помещения [8, с. 8-11]. Предлагалось введение специальной меры пресечения, например, содержание в учреждениях стационарного типа («полулечебных-полупенитен-циарных») [12, с. 36].
Следующие изменения в урегулировании данной формы изоляции от общества были введены Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ1. Было скорректировано название ст. 435 УПК РФ, уточнен статус стационаров, в которые могли поместить подозреваемого (обвиняемого). Данный шаг существенно не повлиял на процессуальную форму, недостатки правового регулирования сохранились. Значительный вклад в решение этой ситуации внес Конституционный Суд РФ, акцентировав внимание на двух важных положениях. Во-первых, отмечено, что госпитализированное лицо не утрачивает своего уголовно-процессуального статуса в качестве лица, в отношении которого ведется производство по уголовному делу. Соответственно, помещение такого лица в стационар должно обеспечиваться процессуальными гарантиями и судебным контролем. Во-вторых, высший орган конституционного контроля указал, что в случае содержания лица в стационаре не в полной мере принимаются меры к обеспечению его надлежащего поведения2. В то же время в местах содержания под стражей устанавливается режим, обеспечивающий исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных уголовно-процессуальным за-конодательством3. Эти позиции обусловили внесение изменений и дополнений в Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», в Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»4 и в УПК РФ. При ограничении права на свободу данной категории лиц были введены дополнительные уголовно-процессуальные гарантии (уточнен правовой статус лица, помещаемого в стационар, определены сроки содержания и др.). Кроме того, приняты меры, направленные на обеспечение надлежащего поведения лица, находящегося в стационаре, в отношении которого могут быть установлены некоторые запреты5. Исполнение ограничений возложено на администрацию медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Порядок осуществления данного контроля, как и статус субъекта, на которого он возложен, не определены. Уместно использовать опыт регулирования порядка взаимодействия органов исполнения уголовных наказаний и федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят органы предварительного следствия, при применении запрета определенных действий6.
Таким образом, внесена определенная ясность в вопросах ограничения свободы лица, в отношении которого осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера. Тем не менее это не означает, что в полном объеме решены проблемы применения этой меры процессуального принуждения. Регламентация данной формы изоляции лица от общества в УПК РФ не исключает постановку вопроса о ее правовой природе. Попытки исключить принудительные меры медицинского характера из сферы уголовно-правового регулирования и их применение вне рамок уголовного судопроизводства по мотивам того, что помещение в психиатрический стационар преследует исключительно цель излечения лица и улучшения его психического состояния [5, с. 8], подверглись аргументированной критике. Уголовно-процессуальная форма помещения в психиатрический стационар обусловлена не только функцией обеспечения своевременного лечения, но имеет и уголовно-процессуальное значение [13, с. 25-30].
Содержание ключевых компонентов процессуальной формы (цели, основания, порядок) имеет тесную взаимосвязь с вопросами оказания медицинской помощи. Так, помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, согласно ч. 1 ст. 435 УПК РФ направлено на достижение лечебных целей. В юридической литературе признается, что объективно временное помещение в психиатрический стационар обеспечивает надлежащее поведение – лицо ограничивается в возможности продолжить преступную деятельность, воздействовать на участников процесса, уничтожить доказательства и т.д. Однако в этих целях временное помещение в психиатрический стационар не допускается (цели всегда «лечебные» – ч. 1 ст. 435 УПК РФ) [14, с. 151-159]. Мы же не исключаем достижение целей, для реализации которых избираются меры пресечения. Более того, мы солидарны с авторами, которые указывают на вторичность учета необходимости лечения лица при разрешении вопроса о помещении его в стационар. Об этом свидетельствует и тот факт, что лечение может осуществляться без временной изоляции лица от общества
(амбулаторно) [10, с. 38]. В обоснование данной позиции следует указать на возможность наложения запретов на лицо, имеющее заболевание (ч. 5 ст. 435 УПК РФ).
Временное помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, не является началом применения принудительных мер медицинского характера1, тем не менее уместно обратить внимание на корреляцию целей их реализации. Так, в соответствии со ст. 98 УК РФ они направлены на излечение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. В уголовном праве доминирующей является теория о разделении целей мер медицинского характера на сугубо медицинские и юридические. Цель медицинского характера законодателем определена через альтернативные критерии: излечение или улучшение психического состояния страдающих соответствующими расстройствами граждан. Цель юридического характера выражена в предупреждении совершения данными гражданами (как во время лечения, так и после него), асоциально настроенными в силу особенностей развития психики, преступлений или общественно опасных деяний [4, с. 83-86]. Подобное предупреждение и в целом обеспечение надлежащего поведения лица, страдающего психическим заболеванием, востребовано и до решения суда о применении принудительных мер медицинского характера. Тем не менее в ст. 435 УПК РФ юридические цели не упоминаются. Возможно, это объясняется тем, что законодатель относит помещение в стационар к системе мер пресечения, назначение которых раскрывается в главе 13 УПК РФ. В таком случае постановка юридических целей в ст. 435 УПК РФ становится излишней. Неопределенность в этой части можно устранить, указав в УПК РФ, что в отношении данной категории лиц применяются меры пресечения с особенностями, предусмотренными в главе 51 УПК РФ. Данный шаг позволит аргументированно использовать нормативный материал, предусмотренный в главе 13 УПК РФ, при определении процессуальной формы госпитализации лица в психиатрический стационар.
Не просто решается вопрос определения оснований временного помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Высказано мнение, согласно которому временное помещение лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, возможно только при наличии оснований заключения и содержания под стражей [9, с. 132]. Данный подход не в полной мере согласуется с ч. 11 ст. 435 УПК РФ, в которой указано, что помещение лица, не содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, производится судом в порядке, установленном ст. 203 УПК РФ. Это свидетельствует о том, что в отношении лица не было оснований для его заключения под стражу. Тогда следует признавать сам факт установления заболевания достаточным основанием для его ареста. В этом случае можно говорить не о достаточности сведений, указывающих на заключение под стражу, но об отсутствии альтернативной меры пресечения, способной обеспечить надлежащее поведения данного лица. В литературе высказано суждение о том, что невозможно, недопустимо и бессмысленно применять меры пресечения и иные меры процессуального принуждения, при которых обязанности и ответственность возлагаются непосредственно на лицо с искаженным восприятием действительности [10, с. 34]. Соответственно, вопрос о помещении в стационар ставится и в случае если отсутствуют основания для заключения под стражу. На правильность данного утверждения косвенно указывает и то, что при улучшении психического состояния лица возможно применение меры пре- сечения, и не обязательно заключение под стражу. Следовательно, в структуре оснований применения рассматриваемой меры принуждения ключевое значение приобретают медицинские показания, зафиксированные прежде всего в заключении специалистов, проводивших судебно-психиатрическую экспертизу [2, с. 47].
Сложность определения обстоятельств, образующих основания для помещения в стационар, обусловлена наличием двух видов правоотношений – уголовно-процессуальные правоотношения (основания мер пресечения) и правоотношения, возникающие при оказании медицинской помощи лицу, страдающему психиатрическим расстройством (медицинские показатели). Так, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что предметом судебного контроля при рассмотрении ходатайства о помещении лица в стационар является выявление набора юридических фактов, дающих основания как для продолжения оказания этому лицу психиатрической помощи, так и для дальнейшего производства по уголовному делу с его участием1. Таким образом, в структуру оснований включаются медицинские показания для оказания лицу психиатрической помощи, предполагаемая опасность психического расстройства для себя или окружающих, а также обстоятельства, указанные в ст. 97, 99 УПК РФ. Два первых компонента связаны с психическим состоянием лица. Для уяснения их содержания следует обратиться к основаниям для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке. Психическое расстройство характеризуется двумя признаками: 1) должно быть тяжелым, вследствие чего лицо представляет непосредственную опасность для себя или окружающих или не способно самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности или оставление его без психиатрической помощи повлечет существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психи- ческого состояния. Важно обратить внимание на то, что законодатель использует союз «или», что свидетельствует о самодостаточности каждого из указанных обстоятельств; 2) обследование и лечение возможно только в стационарных условиях1.
Возникает вопрос: имеются ли основания для госпитализации в порядке ст. 435 УПК РФ в случае, если отсутствует опасность для себя и окружающих, но существуют иные основания. Полагаем, положительный ответ возможен лишь в случае, если имеются и основания для заключения под стражу, предусмотренные в ст. 97 УПК РФ. Ограничение свободы передвижения в рамках уголовно-процессуальных отношений в случае, если присутствуют лишь медицинские показания (например, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи последует существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния), нами ставится под сомнение. В этом случае госпитализация должна осуществляться в порядке, предусмотренном Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Тем не менее и в данном, казалось бы, обоснованном подходе можно выявить некоторые проблемные аспекты, которые ставят под сомнение возможность обеспечения надлежащего поведения данного лица. Отсутствие оснований для заключения под стражу не исключает наличие оснований для избрания иной меры пресечения. Однако условия содержания в психиатрическом стационаре, в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья, не направлены на решение задач, предусмотренных в ст. 97 УПК РФ. Мы рассматриваем два варианта разрешения данной дилеммы. Первый предполагает возможность помещения в психиатрический стационар в порядке ст. 435 УПК РФ при наличии оснований для запретов, предусмотренных в ч. 4 указанной статьи. Второй вариант предусматривает предложение о возможности наложения запретов в отношении данного лица в качестве самостоятельной меры пресечения. Предпочти- тельным представляется второй вариант, он в большей мере учитывает интересы лица, страдающего психическим расстройством, и при этом позволяет обеспечить его правомерное поведение. Таким образом, обращение к системному толкованию глав 13 и 51 УПК РФ позволяет раскрыть содержание компонентов процессуальной формы (цели, основания) госпитализации лица в психиатрический стационар.
Сохраняется неопределенность относительно сущности временного помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Диапазон мнений ученых предполагает выделение трех позиций: это мера пресечения [1, с. 99], иная мера процессуального принуждения [11, с. 84-90], мера процессуального принуждения [15, с. 129]. Имеется ряд отличительных черт, которые ставят под сомнение включение помещения лица в стационар в систему мер пресечения. Во-первых, меры пресечения применяются исключительно к подозреваемому, обвиняемому (однако не исключены ситуации, в которых лицо не было наделено данным статусом) [11, с. 84-90]; во-вторых, в структуру оснований для помещения в стационар входят медицинские показания [2, с. 46], в-третьих, специфичный круг задач (не ограничиваются обеспечением надлежащего поведения), в-четвертых, особенности ее применения (место, условия, порядок содержания). Как правило, именно изложенными обстоятельствами руководствуются ученые при отнесении помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в число иных мер процессуального принуждения [2, с. 46]. Тем не менее характер данных особенностей, на наш взгляд, не влияет на существо помещения лица в стационар как меры процессуального принуждения, они лишь предусматривают наличие дополнительных обстоятельств, связанных с заболеванием лица. Оно по своему функциональному назначению все же ближе к мерам пресечения (реализуются в отношении подозреваемого (обвиняемого), учитываются обстоятельства, предусмотренные в ст. 97 УПК РФ, накладываются отдельные запреты, предусмотренные в ст. 105.1 УПК РФ, исчисляются сроки). При таком подходе нормативное регулирование мер пресечения в большей степени может быть адаптировано к регламентации данной формы изоляции от общества. Причем медицинский компонент может быть регламентирован в главе 51 УПК РФ, в то время как юридическая составляющая в большей мере должна находить отражение в главе 13 УПК РФ.
В юридической литературе неоднозначно относятся к двум ситуациям, в которых возникает необходимость помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Отмечается, что предусмотренное ст. 203 УПК РФ помещение подозреваемого, обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, подчинено исключительно интересам производства судебной экспертизы и выступает принудительным элементом формы производства данного следственного действия. По своему назначению такое принуждение ничем не отличается, например, от принудительного вскрытия помещений в ходе обыска [3, с. 16-20]. При оценке данного подхода следует заметить, что обусловленность помещения лица в стационар для производства судебной экспертизы не во всех случаях исключает постановку цели обеспечения его надлежащего поведения. Это указывает на то, что принуждение в данном случае изначально является обязательным элементом данного процессуального действия. Об этом свидетельствует и то, что в отношении подозреваемого (обвиняемого) могла быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, действующая редакция ст. 435 УПК РФ предусматривает наложение на содержащееся в стационаре лицо определенных запретов. Изложенное свидетельствует о том, что предыдущее помещение в стационар в порядке ст. 203 УПК РФ также было направлено на обеспечение надлежащего поведения. О правильности данных рассуж- дений свидетельствует и последующий вывод И.С. Дикарева о целесообразности дополнения ст. 203 УПК РФ положениями, допускающими возможность установления в отношении подозреваемого, обвиняемого, помещаемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы, предусмотренных ч. 5 ст. 435 УПК РФ запретов [3, с. 16-20].
Таким образом, как помещение подозреваемого (обвиняемого) в стационар в целях производства судебной экспертизы, так и последующее содержание в стационаре при установлении по результатам судебно-психиатрической экспертизы наличия у лица психического расстройства имеет двойственную сущность (мера процессуального принуждения, медико-лечебная мера). Применение данной меры государственного принуждения направлено на достижение двух целей: оказание медицинской помощи и обеспечение надлежащего поведения.
Определенные нарекания вызывает правовое регулирование порядка временного помещения в стационар. Лицо, заключенное под стражу, госпитализируется в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ, при иной мере пресечения реализуются правила, предусмотренные в ст. 165 УПК РФ. Не ясно, почему не содержащийся под стражей подозреваемый, обвиняемый помещается в указанный стационар для этих же целей в другом, менее обеспеченном гарантиями порядке. Иначе говоря, права лица, уже содержащего под стражей, при помещении в психиатрический стационар обеспечиваются гораздо более надежно, чем права того, кто свободы еще не лишен [13, с. 25-30]. В юридической литературе это объясняется тем, что вопрос о применении такой меры принуждения должен решаться в отсутствие стороны защиты. Ни лицо, страдающее психическим заболеванием, ни его защитник не должны знать о рассмотрении судом данного вопроса, поскольку иначе возникает угроза того, что данное лицо скроется от органов предварительного расследования [2, с. 25-30].
В период действия первоначальной редакции УПК РФ подобный подход не вызывал особых нареканий. Это объяснялось тем, что на тот момент лицо, имеющее психическое расстройство и совершившее запрещенное уголовным законом деяние, не было наделено процессуальными правами. Потребовалось обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, который отметил, что лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, так же как подозреваемый (обвиняемый) по уголовному делу, уличается в совершении деяния, запрещенного уголовным законом. Поэтому такому лицу, хотя оно и не привлекается к уголовной ответственности, должны обеспечиваться равные с другими участниками, в отношении которых осуществляется преследование, процессуальные права1. В 2010 г. внесены изменения в ст. 437 УПК РФ, лицо, с учетом его психического состояния, наделено правами, предусмотренными ст. 46 и 47 УПК РФ2. В этих условиях следует пересмотреть отношение к порядку помещения данного лица в стационар. Оно должно быть наделено правом высказать свою позицию относительно ограничения его свободы, если психическое состояние позволяет им воспользоваться. На наш взгляд, Верховный Суд
Российской Федерации своевременно рекомендовал в данных случаях обеспечивать возможность участия и реализации предусмотренных уголовно-процессуальным законом прав в судебном заседании лица, в отношении которого решается вопрос о помещении в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях (за исключением случаев, когда физическое и (или) психическое состояние не позволяет ему предстать перед судом)3.
Изложенное свидетельствует о том, что мы имеем дело с комплексной мерой государственного принуждения в рамках уголовно-процессуальных отношений, предусматривающей одновременное решение разных по своему значению задач: обеспечение надлежащего поведения лица, оказание ему психиатрической помощи. Представляется, что в ее основе лежат две составляющие (мера процессуального принуждения, медико-лечебная мера), которые определяют сущность и иные аспекты данной формы ограничения права на свободу и личную неприкосновенность (цели, основания, порядок). На госпитализацию распространяются общие правила применения мер процессуального принуждения, в то время как специфические черты нашли отражение в ст. 435 УПК РФ.