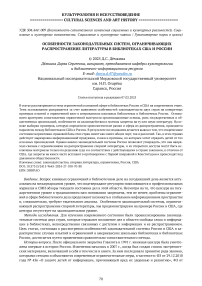Особенности законодательных систем, ограничивающих распространение литературы в библиотеках США и России
Автор: Дмкина Д.С.
Рубрика: Культурология и искусствоведение
Статья в выпуске: 1 (100) т.27, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается тема ограничений в книжной сфере в библиотеках России и США на современном этапе. Тема исследования раскрывается за счет выявления особенностей законодательств двух стран на конкретных примерах изъятий и ограничений книг в американских школьных библиотеках и библиотеках России. Основанием критериев сопоставления ограничений выступили организационные основы, роль государственных и общественных организаций, особенности их взаимодействия и мотивы запретов на ту или иную литературу. На основе выборки примеров, которую определили хронологические рамки и сфера их распространения, проводятся параллели между библиотеками США и России. В результате исследования делается вывод о том, что современное состояние нормативно-правовой базы этих стран имеет как много общих черт, так и различий. Так, в этих странах действует маркировка информационной продукции, схожи и причины, по которым хотят оградить детей от тех или иных произведений Однако анализ законодательной системы России позволяет утверждать, что она напрямую связана с ограничениями на распространение спорной литературы, и из открытого доступа могут быть исключены материалы только по решению суда и в соответствии с действующими в стране законами, в отличии от США, где запреты на книги часто вступают в противоречие с Первой поправкой к Конституции и происходят под давлением общественности.
Законодательство, спорная литература, ограничения, Россия, сша
Короткий адрес: https://sciup.org/148331021
IDR: 148331021 | УДК: 304.444: | DOI: 10.37313/2413-9645-2024-27-100-70-80
Текст научной статьи Особенности законодательных систем, ограничивающих распространение литературы в библиотеках США и России
EDN: XRHPAO
Введение. Вопрос книжных ограничений в библиотечном деле на сегодняшний день является актуальным на международном уровне, что подтверждают регулярно появляющиеся в профессиональных журналах и СМИ обзоры текущего состояния дел в этой области. Несмотря на то, что цензура на государственном уровне в традиционном нам понимании запрещена, тем не менее, проблемы ограничений в сфере библиотечного дела продолжают возникать в глобальном информационном пространстве и, следовательно, требуют тщательного анализа. Особенности законодательной системы, ограничивающей распространение спорной литературы, мы продемонстрируем на примере России и США, где цензура отсутствует на законодательном уровне .
Методы исследования . Для изучения современного состояния были проанализированы законодательные системы двух стран, которые отражают положение дел в области свободы слова и информации в библиотеках, непосредственно связанных с доступом к информации и ее распространением. Цель статьи, состоящая в рассмотрении особенностей законодательной системы России и США и характеристике случаев изъятий и ограничений в американских школьных библиотеках и библиотеках России, достигается путем применения сравнительно-сопоставительного метода.
История вопроса. После официального закрытия Главлита в 1991 г. книжная цензура была уничтожена впервые в истории России. Изменения начались в 2007 г., когда был создан список экстремистских материалов, включавший в себя в том числе и книги. За ним последовало принятие ряда законов, которыми сегодня и объясняются современные ограничительные меры, в частности: ФЗ от 29.12.2010 года № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ от
14.07.2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В США запреты книг также явление не новое, но по данным Управления интеллектуальной свободы Американской библиотечной ассоциации становятся все более распространенным явлением и могут являться нарушением Первой поправки к Конституции США. Однако, выявление нарушений является затруднительным, в связи с тем, что существует множество решений Верховного суда США о толковании Первой поправки.
Большинство исследований, посвященных книжной цензуре, освещают советский период, когда государственный надзор за печатью существовал официально. Большой вклад в изучение зарубежного опыта вносят работы Д. К. Равинского [2], который рассматривал проблематику библиотечной цензуры, свободного доступа к информации и интеллектуальной свободы. Проблемы доступа к информации в библиотеках на современном этапе изучает И.А. Трушина [3] и др. Анализу современного теоретико-правового понимания цензуры в условиях ее конституционного запрета посвящены работы С.А. Куликовой [1].
В зарубежной литературе актуальным направлением исследований библиотековедов и ученых является изучение причин цензуры, механизмов ее работы в современном обществе, а также социальная и правовая сторона книжных запретов. Эмили Дж. М. Нокс и Дженнифер Элейн Стил [ 4 ] исследуют историю запретов книг и ее современные итерации, а также социальные последствия цензуры. Ави Брисман [3], Шеннон М. Ольтманн [6] и Джун Пиннелл-Стивенс [5] анализируют судебные дела и поднимают вопрос, нарушает ли удаление книг из школьных библиотек Первую поправку или это законный акт со стороны чиновников.
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе использованы значимые для научного сообщества материалы из англоязычных источников за последние несколько лет. Сравнительный анализ законов Российской Федерации и США, ограничивающих выдачу определенных книг в библиотеках по тем или иным причинам, ранее не проводился.
Результаты исследования. Первая поправка к Конституции США защищает свободу слова, запрещая издание законов, «ограничивающих свободу слова или печати»1. Но несмотря на это в американском медийном пространстве за последние годы возросло количество обсуждений, касающихся свободы слова в школьном образовании. Эти дебаты зачастую приводят к противостоянию между защитниками свободы слова и сторонниками цензуры. Библиотечный Билль о правах, принятый Советом Аме риканской библиотечной ассоциации (АLА) 19 июня 1939 г., стал основой для дальнейших разработок прав пользователей библиотек и способствовал появлению новых подходов к библиотечному делу, в которых больше внимания стало уделяться этическим принципам и защите прав личности. В нем содержатся следующие важные положения, которые и сегодня в полной мере выражают отношение библиотечного сообщества США к вопросам доступа к информации. Во-первых, «библиотеки должны предоставлять материалы и информацию, отражающие все точки зрения на текущие и исторические вопросы. Материалы не должны исключаться из-за происхождения, биографии или взглядов тех, кто способствовал их созданию»2. Во-вторых, «библиотеки должны бросать вызов цензуре при выполнении своих обязанностей по предоставлению информации и просвещению»3. В-третьих, «библиотеки должны сотрудничать со всеми людьми и группами, заинтересованными в сопротивлении ограничению свободы выражения мнений и свободного доступа к идеям»4. В статье мы в том числе изучим, насколько эти положения АLА выполняются американскими библиотеками и в какой степени они отвечают реальной практике библиотек.
Рассмотрим примеры ограничений книжной продукции, их обоснованность и последствия на примере стран России и США. В большинстве стран мира существуют официальные списки запрещенной литературы. Но в отличии от прошлых времен, современные цензоры выступают не против религиозных или идеологических противников, а борются с распространением изданий, разжигающих межнациональную и межрелигиозную рознь и подрывающих нравственные и политические устои государства. С этими целями в России c 2007 г. ведется федеральный перечень экстремистских материалов, который размещен на официальном сайте министерства юстиции Российской Федерации. На сегодняшний день в списке содержится 5454 материалов, среди которых: литература, музыкальные произведения, фильмы, веб-сайты, произведения изобразительного искусства5. Классических произведений в списке экстремистских материалов нет, но в советские годы, в частности, были запрещены «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Лолита» Владимира Набокова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, подвергнута цензуре рукопись «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, даже сказочное произведение «Крокодил» Корнея Чуковского и ряд других произведений, которые сегодня являются классикой, а некоторые входят в школьную программу по литературе и изучаются в старших классах6. Наиболее распространенными причинами, из-за которых тем или иным книгам было отказано в печати, были книги, запрещенные по моральным, этическим и религиозным причинам, а также книги, содержащие идеи, противоречащие официальной идеологии, критикующие советское правительство или считающиеся угрозой государственной безопасности. Произведения писателей, эмигрировавших из Советской России, также не издавались, поскольку их авторы считались врагами и предателями Отечества.
В США также в разные годы среди книг, которые запрещались и изымались из библиотек, школ и университетов, оказывались классические произведения: «Великий Гэтсби» Ф. Скотта Фицджеральда (в 1987 г. за упоминание сексуальных сцен), «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера (с 1960-х гг. по 2009 г., за ненормативную лексику и сексуальные отсылки), «Гроздья гнева» Джона Стейнбека (с 1939 по 1993 гг. за ненормативную лексику»7 и др.
Профессор школы исследований в области правосудия Восточно-Кентуккийского университета Ави Брисман определяет запрет на книги как форму цензуры, которая случается, когда государственные служащие, частные лица, религиозные группы или другие организации или образования пытаются убрать книги из библиотек, школьных списков для чтения или с полок книжных магазинов из-за возражений против содержания книги, изображений, идей или тем8. При запрете книг часто учитываются и стандарты сообщества. Хотя цензура нарушает право на свободу слова, закрепленное в Первой поправке, некоторые ограничения считаются конституционно допустимыми. Суды в США заявили государственным служащим на всех уровнях, что они могут принимать во внимание общественные стан дарты при принятии решения о том, являются ли материалы непристойными или порнографическими и, следовательно, подлежат ли они цензуре. Однако они не могут подвергать цензуре публикации общепризнанных авторов чтобы успокоить небольшую часть сообщества9.
Противники цензуры часто обращаются к Первой поправке к Конституции. Как пишет Пиннелл-Стивенс: «Основа интеллектуальной свободы в библиотеках заключается в Первой поправке» [Pinnell-Stephens, J., p. 47]. Однако толкование Первой поправки не является чем-то конкретным, и на протяжении всей истории США суды пытались решить, какие свободы на самом деле защищаются Первой поправкой. В единственном деле, дошедшем до Верховного суда по поводу изъятия книг из школьных библиотек «Школьный округ Айленд-Триз против Пико (1982 г.)», суд постановил, что государственные школы могут запрещать книги, которые являются «повсеместно вульгарными» или не подходят для учебной программы, и что свобода действий «должна осуществляться таким образом, чтобы это было в соответствии с императивами Первой поправки»10 Но в соответствии с другими постановлениями, касающимися дискриминации по содержанию, они не могут изымать книги «просто потому, что им не нравятся идеи, содержащиеся в этих книгах»11. Однако решение Верховного суда является очень конкретным и касается только изъятия книг из школьных библиотек.
В России цензура запрещена Статьей 29 Конституции РФ12. В Федеральном законе «О библиотечном деле» (1994 г.) также говорится, что «не допускаются государственная или иная цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам…», и в соответствии с законом из фондов библиотек может быть изъяты только материалы экстремистского характера, а также издания организаций, признанных экстремистскими13. В федеральный перечень экстремистских материалов России включаются различные документные материалы, признанные экс тремистскими и исключенные из открытого доступа только по решению федерального суда, например, литература религиозно-экстремистского содержания, а также произведения по альтернативной истории.
В соответствие с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» (2002 г.) библиотекам не разрешается держать в фондах материалы, которые числятся в перечне экстре-мистских14. Чтобы помочь библиотекам придерживаться закона Министерство культуры РФ в 2017 г. разработало «Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный спи сок экстремистских материалов». В соответствии с этим списком библиотеки стали обязаны выверять свои фонды каждые три месяца. В ситуации, когда документ из списка обнаруживался в фонде, то по инструкции, если отсутствуют законные причины его необходимости, он должен быть списан и передан на утилизацию15. Исключение составляют только библиотеки, являющиеся государственными депозитариями и хранящие обязательный экземпляр.
Так, например, после того, как в январе 2023 г. Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили)* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов, библиотеки его книги из фондов убирать не стали. Российская библиотечная ассоциация (РБА) опубликовала заявление с правилами, которые помогают понять, в каких случаях допустимо удаление его произведений из коллекций российских библиотек. «В случаях, если автор произведений внесен в список террористов и экстремистов, вопрос о режиме использования его произведений решается только после проведения уполномоченными органами официальной экспертизы о наличии в конкретном произведении элементов экстремизма или пропаганды терроризма и включения произведения в вышеупомянутый список экстремистских материалов»16. На сегодняшний день неизвестно о каких-либо решениях суда, вынесенных в отношении книг Бориса Акунина, о признании их экстремистскими материалами.
ФЗ от 14 июля 2022 года № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», также повлиял на работу библиотек. Российская библиотечная ассоциация объяснила, что: «Ограничения не распространяются на издания, вышедшие до признания иностранным агентом автора или издательства»17. Во всех других ситуациях библиотекам рекомендуется не проводить мероприятия для посетителей, не достигших до 18 лет, привлекающих внимание к литературе, носящей политико-пропагандистский характер18. Так, в ноябре 2023 г. библиотеки в Омске, Красноярске и Новосибирске стали выдавать книги иноагентов только совершеннолетним. Для подтверждения возраста сотрудники библиотек просят предъявить паспорт. Произведения иноагентов также убрали с полок. В министерстве культуры Омской области объяснили, что такие произведения должны маркироваться возрастным цензом 18+, с чем и было связано нововведение. А в Красноярске книги иноаген-тов в краевой детской библиотеке стали выдавать только по паспорту. По словам одного из сотрудников учреждения, все книги таких авторов в библиотеке помечены знаком 18+, даже несмотря на то, что большинство из них детские или подростковые. Также эти произведения были убраны с полок, и чтобы получить их, нужно целенаправленно спрашивать у сотрудников19. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал инициативу омских, красноярских и новосибирских библиотек полезной и предложил распространить такой опыт на всю страну20.
В США есть свой «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) принятый еще в 1938 г. и регламентирующий работу организаций, представляющих интересы иностранных компаний и государств в США. Но закон не затрагивает лиц, занимающихся некоммерческой деятельностью в области религии, образования, науки и искусства21.
В ноябре 2023 г. международная правозащитная неправительственная организация PEN-клуб подала иск по делу «Книжные люди против Вонга», оспаривая техасский закон HB 900, который требует от книготорговцев оценивать книги, продаваемые государственным школам, на предмет сексуального содержания, а школьные библиотеки обязаны будут отзывать ранее приобретенные книги, попавшие в рейтинг. По нему, учащимся потребуется письменное согласие родителей на чтение подобных книг. Но здесь важно понимать, что рейтинги основаны на расплывчатых и чрезмерно широких критериях и не учитывают контекст, намерения автора, а также различия в возрасте, зрелости и уровне чтения среди всей группы учащихся в Техасе. Ширли Робинсон, исполнительный директор Техасской библиотечной ассоциации, заявила, что ее беспокоит расплывчатость и широта формулировок законопроекта, отмечая, что требования будут нереалистичными и очень громоздкими для реа-лизации22. «Цензурный подход этого закона к литературе в школах противоречит фундаментальным ценностям Первой поправки», – прокомментировала Надин Фарид Джонсон, управляющий директор американского офиса PEN в Вашингтоне23. И добавила, что: «Законопроект представляет собой опасную попытку со стороны государства вмешаться в искусство и литературу, и его сдерживающий эффект серьезно подорвет творческую свободу писателей»24. Округ Техас также запретил лицам младше 18 лет доступ к «откровенным» или «нежелательным» материалам в любой из семи публичных библиотек города. Согласно новым правилам, директор библиотеки обязан группировать книги по жанрам в детском разделе, а также маркировать и ограничивать доступ к книгам сексуального характера для несовершеннолетних25.
Еще один Закон HB 843 штата Теннесси расширяет «Закон о материалах, соответствующих воз расту» от 2022 г., и ожидается, что он также приведет к росту запретов на книги. Закон, вступивший в силу в июле 2024 г., теперь требует от школ изымать книги, содержащие «наготу, «чрезмерное насилие или контент, связанный с сексом». Он также уполномочивает государственную комиссию оценивать определенные оспариваемые названия и запрещать книги по всему штату26. Отчеты PEN America показали, что школьная система округа Кларксвилл-Монтгомери в Теннесси разослала список книг округа Уилсон в качестве «ресурса» для библиотекарей и администраторов, чтобы «серьезно рассмотреть» его при проверке своих коллекций в соответствии с законодательством штата27.
В Юте по состоянию на июль 2024 г. было запрещено 13 книг по всему штату в соответствии с недавно принятым законопректом HB 29. Этот закон является «самым экстремальным государственным законопроектом о запрете книг» и устанавливает то, что PEN America назвала «Списком запрещенного чтения» в школах по всему штату. Согласно закону, если должностные лица не менее трех школьных округов или не менее двух школьных округов и пяти чартерных школ определили, что книга представляет собой «объективно деликатный материал», она должна будет быть изъята во всех школах28. Против запрета этих книг выступили несколько групп, в том числе PEN America, которые были обеспокоены тем, что реализация закона приведет к уменьшению разнообразия книг в библиотеках для всех жителей Юты и выразили сомнение в демократичности данного разрешения нескольким округам принимать решения за весь штат29.
В штате Южная Каролина также в июле 2024 г. единогласно было принято постановление Государственного совета по образованию 43-170, которое вступило в силу в соответствии с Законом об административных процедурах Южной Каролины. Постановление устанавливает последовательные определения и двухэтапный пороговый тест для местных педагогов и советов, чтобы определить, являются ли материалы, доступные учащимся в государственных школах, подходящими по возрасту и уровню развития и подходящими с точки зрения образования и соответствующими целям учебной программы Южной Каролины. Положения запрещают книги с сексуальным содержанием и дают Совету по образованию штата полномочия запрещать книги по всему штату30.
В России маркировка информационной продукции была введена еще в 2012 г., и в зависимости от содержания такую продукцию маркировали 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. В 2020 г., согласно ФЗ от 29.12.2010 года № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Министерство культуры России издало приказ, по которому все библиотеки при формировании фондов должны будут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг, соответствующих возрастным категориям читателей, при этом книги, помеченные как «18+», должны храниться отдельно от других изданий31. У библиотек появился четкий регламент: когда ребенок берет книгу и отдает библиотекарю читательский билет, библиотекарь должен посмотреть в каталоге год его рождения, и если ребенку меньше 18 лет, то книга «18+» ему выдана быть не может. Но в 2022 г. Госдума упразднила промежуточную возрастную маркировку от «0+» до «16+» и вместо нее стало возможным использовать общие формулировки: «для семейного чтения», «не рекомендовано для детей» и др. Обязательной осталась только маркировка «18+»32.
В США Закон «О защите детей в Интернете» (CIPA) был принят в 2001 г., и требовал от школ установки на своих компьютерах технологии интернет-фильтрации в качестве условия получения определенного финансирования и скидок. Этот закон распространялся также на компьютеры, используемые взрослыми посетителями и сотрудниками библиотеки. Американская библиотечная ассоциация (ALA) пыталась оспорить закон, утверждая, что он нарушает права посетителей библиотеки, предусмотренные Первой поправкой. Дело дошло до Верховного суда США, который постановил, что закон не нарушает положения Первой поправки о свободе слова33.
Выводы. Таким образом, несмотря на то что общие тенденции в ограничении доступа к литературе и информации присутствуют в обеих странах, хотя подходы и меры могут различаться, есть основания полагать: запреты книг в России в большей степени обусловлены российским законодательством. Приведенные выше случаи подтверждают, что в первую очередь ограничения книг в российских библиотеках опираются на законы («О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и пр.), и поэтому действия правительства, которые некоторые могут считать цензурными, невозможно классифицировать как конституционные или неконституционные, потому что в этих случаях «цензура» – это разговорный, а не юридический термин.
В США же законы, касаемые запрета или изъятия книг из библиотек в зависимости от штата или даже округа, могут сильно отличаться, и это связано с тем, что школьные советы имеют широкие полномочия контролировать материалы, распространяемые в школьных библиотеках. Отсюда не представляется возможным выявить законность этих действий вследствие размытости формулировок законов.
Список литературы Особенности законодательных систем, ограничивающих распространение литературы в библиотеках США и России
- Куликова С.А. Ограничение распространения "вредной информации" в условиях конституционного запрета цензуры: проблемы законотворчества // Цензура в России: история и современность. - 2015. - Вып. 7. С. 15-31. EDN: XVDODP
- Равинский, Д. К. Защита детей от нежелательного контента в Интернете: уроки зарубежного опыта // Цензура в России: история и современность. - 2021. - Вып. 10. - С. 91-105. EDN: CGSLXF
- Трушина, И. А. Трансформации позиций международного библиотечного сообщества по вопросам интеллектуальной свободы и цензуры // Цензура в России: история и современность. - 2021. - Вып. 10. - С. 45-62. EDN: MHQCHN
- Avi Brisman. Book Bans, the Criminalization of Library Science, and the Death of Writers and Readers / Brisman Avi // Criminalisation of Dissent in Times of Crisis. - 2024. - № 1. - P. 17-40.
- Jennifer Elaine Steele. A History of Censorship in the United States // Intellectual Freedom & Privacy. - 2020. - Vol. 5. - № 1 [Electronic text]. - URL: https://journals.ala.org/index.php/jifp/article/view/7208/10293 (дата обращения: 12.12.2024).
- Pinnell-Stephens, J. Protecting Intellectual Freedom in Your Public Library (Intellectual Freedom Front Lines) / J. Pinnell-Stephens. - ALA Editions, 2012. - 256 p.
- Shannon, M. Oltmann The Fight against Book Bans: Perspectives from the Field. Bloomsbury Libraries Unlimited / Oltmann Shannon M. - Bloomsbury Libraries Unlimited, 2023. - 256 p.