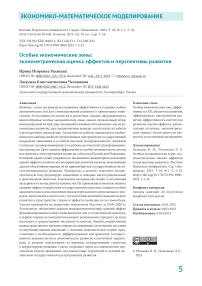Особые экономические зоны: эконометрическая оценка эффектов и перспективы развития
Автор: Рахмеева И.И., Чеснюкова Л.К.
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Математические, статистические и инструментальные методы в экономике
Статья в выпуске: 1 т.18, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: статья посвящена исследованию эффективности создания особых экономических зон для стимулирования развития и привлечения инвестиций. За последние десятилетия в различных странах сформировались многообразные особые экономические зоны, однако проведенный обзор международной литературы, касающейся влияния обозначенных зон на региональное развитие, дает неоднозначные выводы о результатах их работы в долгосрочной перспективе. Актуальность работы определяется необходимостью выбора наиболее продуктивных инструментов государственной поддержки экономики в условиях высокой неопределенности, затяжной стагнации и разворачивающихся на рубеже десятилетий трансформационных процессов.
Особая экономическая зона, эффективность оэз, институты развития, эффективность инструментов развития, эффективность институтов развития, оценка эффекта, доказательная политика, эконометрические модели, метод разности разностей, естественный эксперимент
Короткий адрес: https://sciup.org/147246883
IDR: 147246883 | УДК: 339.924 | DOI: 10.17072/1994-9960-2023-1-5-24
Текст научной статьи Особые экономические зоны: эконометрическая оценка эффектов и перспективы развития
Рахмеева И. И., Чеснюкова Л. К. Особые экономические зоны: эконометрическая оценка эффектов и перспективы развития // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2023. Т. 18, № 1. С. 5–24.
Rakhmeeva I. I., Chesnyukova L. K. Special economic zones: Econometric assessment of effects and development prospects. Perm University Herald. Economy, 2023, vol. 18, no. 1, pp. 5–24.
В настоящее время наша страна переживает один из кризисных периодов с экономической точки зрения, спровоцированный анти-российскими санкциями западных стран. В этом контексте поиск моделей, стимулирующих экономическое развитие, в национальной политической повестке дня стоит на первом месте. Стратегические приоритеты развития направлены на диверсификацию производства, основанную на смешанной экономике при государственном управлении и стимулировании частных производственных инвестиций для преодоления последствий экономической блокады.
Таким образом, оценка обеспеченности национальными производственными факторами и возможность разработки стратегической программы промышленного развития, основанной на выпуске товаров с более высокой добавленной стоимостью, будут возникать по мере разработки программ и проектов различных субъектов России. Для привлечения инвестиций в регионах страны благодаря использованию ряда стимулов, правил и операционных преимуществ активно применяются различные институты развития: особые экономические зоны (ОЭЗ), кластеры, промышленные фонды и многие другие. Однако, как верно замечает коллектив пермских ученых в области региональной экономики, стремление регионов внедрить успешный зарубежный опыт сталкивается с недостаточной изученностью интеракции институтов развития и региональной системы, что приводит зачастую к их «нейтральному или даже негативному влиянию на показатели социально-экономического развития территорий» [1, с. 162].
За последние 15 лет было создано более четырех десятков особых экономических зон [2, с. 18]. В этом смысле изучение и понимание международных моделей промышленной политики и инструментов, включая создание особых экономических зон, являются ключевыми элементами для разработки отечественных стратегий, которые позволят разумно и прагматично подойти к решению вопроса о перспективах дальнейшего развития института особых экономических зон в России.
Целью исследования служит оценка эффективности особых экономических зон как инструмента стимулирования развития субъекта РФ. Для этого в статье решены следующие задачи:
– изучено теоретическое обоснование применения института особых экономических зон для активизации экономического роста в пространстве региона и методические подходы к анализу эффективности этого процесса;
– проведен систематический обзор международной литературы, касающейся влияния особых экономических зон на региональное экономическое развитие;
– предложена и обоснована эконометрическая модель оценки эффекта особых экономических зон как государственного инструмента стимулирования экономического развития региона;
– оценен средний эффект воздействия от формирования особых экономических зон в субъекте РФ на изменение за 10-летний период показателей валового регионального продукта (ВРП) региона, инвестиций и занятости с учетом, во-первых, общей динамики экономического развития в пространстве страны, во-вторых, эффекта смещения из-за самоотбора при определении территорий для создания особых экономических зон.
С учетом особенностей исследовательской работы приоритетное внимание было уделено использованию всех доступных ресурсов и материалов. Изучены три категории источников:
-
1) работы общего характера, описывающие процесс развития России, и специализированная литература, в которой рассматриваются концепции, необходимые для создания надлежащей теоретической основы для исследований, в первую очередь теории кластеров и особых экономических зон;
-
2) специализированная литература для изучения особых экономических зон России с целью углубления знаний об исторических
процессах, лежащих в основе их создания, при обсуждении процессов функционирования и роли данных образований;
-
3) документальные файлы, такие как нормативные акты, планы развития и другие, позволяющие исследовать роль государства и институтов в формировании и развитии изученных особых экономических зон и констатировать импульс или тормоз, которые государство могло создать для кластеров из отраслей с более высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичных секторов.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА ЧЕРЕЗ ИНСТИТУТ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
На протяжении десятилетий регионы России развивались неравномерно. В работе [3] отмечается, что их дифференциация определяется рядом факторов, в том числе растущими показателями доходов, развития и благосостояния в центральном регионе и низкими показателями экономического роста в периферийных регионах, которые не смогли реализовать свой огромный производственный потенциал. Особые экономические зоны – ответ на устранение пробелов в региональном неравенстве, содействие сбалансированному и устойчивому развитию. Они представляют собой стратегию создания новых промышленных центров в наиболее отстающих субъектах на основе инновационной, прогрессивной государственной политики, направленной на привлечение инвестиций, повышение производительности и создание высокооплачиваемых рабочих мест [4].
За последние 30 лет зоны свободной торговли зарекомендовали себя как одно из основных средств продвижения экспорта, получения иностранной валюты и инвестиций, создания прямых и косвенных рабочих мест, передачи технологий и ноу-хау для многих стран с развитой и развивающейся экономи- кой. Однако результаты применения такого рода промышленной модели, основанной на специальных стимулах, не были одинаковыми, поэтому экономические и социальные последствия в странах, которые ее внедрили, варьируются.
Вопросы, связанные с формированием и функционированием особых экономических зон, рассматривались в трудах зарубежных ученых, таких как A. Aggarwal [5], G. Akinci , J. Crittle [6], R. Basile , D. Castellani , A. Zanfei [7], P. Bidwai [8], P. Gibbon [9], R. Narula , J. X. Zhan [10]. В данных работах обосновывается, что налоговые, таможенные и экономические стимулы позволят в полной мере использовать экономические возможности каждого региона, а также интегрировать производственные цепочки с высокой добавленной стоимостью. A. V. Gabriel описывает модели особых экономических зон, в которые входят представители индустриальных парков, экоиндуст-риальных парков, технопарков, инновационных районов и т.д. [11].
T. Farole и G. Akinci в широком смысле определяют особые экономические зоны как «географически разграниченные зоны, входящие в национальные границы государства, с законодательством, регулирующим деятельность, отличным от того, которое действует на остальной территории страны. Эти дифференцированные правила применяются в первую очередь к условиям инвестирования международной торговли и таможенного, налогового и экологического регулирования, посредством которых особая экономическая зона воспринимает деловую среду как стремящуюся быть более либеральной с политической точки зрения и более эффективной с административной точки зрения, чем та, которая существует на национальной территории» [12].
Это дифференцированное регулирование обычно устанавливается с одной или несколькими из следующих целей:
-
– привлечь прямые иностранные инвестиции;
– действовать в качестве «клапанов» для смягчения сценариев высокой структурной безработицы;
– сконцентрировать ресурсы и сформировать полюсы роста в экономическом пространстве страны;
– функционировать в качестве стратегической опоры для экономических реформ на национальном уровне;
– служить в качестве экспериментальной лаборатории по применению новой экономической политики.
Для D. Acemoglu , S. Johnson и J. Robinson двумя центральными переменными для изучения процесса роста являются:
-
1) политические институты;
-
2) распределение ресурсов в обществе [13].
Первая переменная будет определять формальную (де-юре) политическую власть в обществе, в то время как вторая – фактическую (де-факто) политическую мощность. Взаимодействие между институтами и экономическим ростом в целом при переходе из периода t к периоду t + 1 показано на рисунке.
Изменения, отраженные на рисунке, вызваны экзогенными событиями в распределении политических сил в обществе и могут иметь серьезные последствия для эффективности экономики и, следовательно, распределения ресурсов в последующие периоды. С этой точки зрения представляется разумным предположить, что серьезный спад независимо от того, вызван ли он ошибками экономической политики или факторами, не связанными с ней, может способствовать перераспределению ресурсов и политической власти, что в конечном счете приведет к изменению стратегии экономической политики, общих показателей экономики и даже «правил экономической политики».
Для России с ее протяженными территориями всегда остро стоял вопрос построения эффективной политики пространственного развития. Специалисты в сфере региональной экономики, в частности В. Н. Лексин, А. Н. Швецов, В. В. Климанов, большое значение придают формированию точек роста в пространстве страны при поддержке государства [14; 15]. Российские ученые С. Ю. Глазьев и А. Г. Гранберг считают, что «экономические зоны могут стать одним из эффективных инструментов развития территории России, благодаря которому инновации могут быть распространены на достаточно большую территорию страны, а также повлиять на развитие проблемных регионов» [16]. В работах Ф. Ф. Адигамовой [17], И. Голубкина [18], В. Г. Панскова [4], С. В. Фру-миной [19] отмечается, что необходимым условием успеха особой экономической зоны любой категории является то, что она должна быть создана в соответствии с конкретной ситуацией в каждой стране, с ее собственными сравнительными преимуществами, а также с учетом долгосрочной перспективы, которая способствует координации и синергии между различными экономическими субъектами.

Институты власти (t) или формальная политическая власть (t)
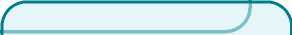
Распределение ресурсов (t) или фактическая политическая власть (f)
Экономические институты (t)
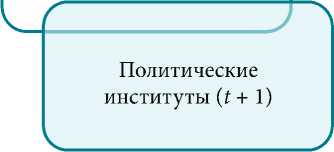
Экономическая эффективность (t)
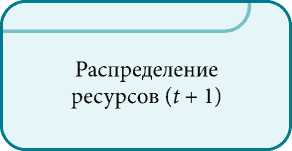
Источник : составлено авторами по [13, p. 6] = Compiled from authors [13, p. 6].
Рис. Взаимосвязь институтов и экономического развития Fig. The relationship between institutions and economic growth
Следует различать понятие эффективности и эффекта от создания особой экономической зоны. В данной статье под эффективностью такого инструмента понимается принятый в федеральных нормативных правовых актах 1 и официальных отчетах [2] подход, когда эффективным считается наличие отдачи от вложенных средств и рост показателей деятельности самой зоны, что будет подробнее раскрыто в разделе методологии. Под эффектом же мы понимаем изменение показателей экономического состояния субъекта РФ после воздействия на него определенных государственных мер в сравнении с гипотетической ситуацией, отражающей отсутствие таких мер, т.е., по существу, долю вклада особой зоны в прирост экономических индикаторов всего региона. Помимо мер государственной поддержки на динамику показателей развития субъекта РФ (тот самый эффект, который мы планируем оценить) будут влиять особенности (потенциал) самой территории (эффект региона) и особенности различных временных промежутков, например экономический кризис или изменение экономической конъюнктуры (временной эффект). Оценка эффекта, в отличие от эффективности, не может быть проведена на основе простого статистического анализа и требует разработки специальной методики, что и является ключевой задачей статьи.
Развивая методологию планирования и управления ОЭЗ, некоторые ученые предлагают разработку механизма государственно-частного партнерства, обосновывая это тем, что «подобный механизм (элемент) позволяет получить доступ к дополнительным средствам» [20]. Благодаря механизму государственно-частного партнерства «модернизация инфраструктуры проходит наиболее быстрыми темпами, а внедрение опыта частного бизнеса позволяет значительно улучшить продуктивность проектов и разработок» [21].
Отметим позицию российских ученых, которые рассматривают особые экономические зоны с точки зрения институциональных изменений. Профессор О. С. Сухарев предлагает рассматривать «эффективность функционирования особых экономических зон и динамику межсекторных взаимодействий с использованием методов структурного анализа, которые позволяют отразить направление интересов экономических субъектов и скорость протекающих процессов» [22]. В исследовании приведен аналитический материал, который «свидетельствует о наличии сильной взаимосвязи между динамикой законотворческой деятельности в отношении режима ОЭЗ и межсекторным взаимодействием в экономике региона» [Там же]. Изменяя институциональные параметры, можно воздействовать на структуру инвестиций с вытекающим влиянием этой структуры на экономический рост [23]. Автором делается вывод о том, что «институты оказывают влияние на каждую компоненту отдельно, но также обеспечивают взаимосвязь различных компонент, которая усиливается или ослабляется в зависимости от эффективности институтов и силы их совместного и раздельного влияния» [24].
В работе члена-корреспондента Российской академии наук Е. В. Попова, подготовленной в соавторстве с И. С. Кац, приводятся рассуждения и выводы о ряде институциональных эффектов особых экономических зон: внешних эффектах при потреблении общественных благ, эффекте Мюрдаля – сетевом характере развития экономической среды. Авторы определяют приоритетные направления развития, которые «способствуют росту социального благосостояния: передача части социальных целей на субнациональный уровень на коммерческой основе, введение более жестких бюджетных ограничений и регулирование системы сдержек и противовесов» [25].
эффективности функционирования особых экономических зон» // СЗРФ. 18.07.2016. № 29. Ст. 4820.
Интересен опыт Китайской Народной Республики (КНР) в создании особых экономических зон. Страна добилась успеха благодаря своим цепочкам создания стоимости в бизнесе и социальным сетям, а также непрерывному обучению и совершенствованию технологий [26]. Y. Yiming утверждает, что правительственная инициатива сыграла ключевую роль в стимулировании производственных факторов и переходе к индустриализации с более высокой добавленной стоимостью, поскольку «китайская модель производства и экспорта выглядела бы совершенно иначе, если бы традиционные силы китайской экономики» [27] и сравнительные преимущества, побуждающие Китай специализироваться на «трудоемких» продуктах, «подходящих» для экономик с низким уровнем дохода, были единственным определяющим фактором [Там же]. Государственная политика КНР помогла развить внутренние возможности в области бытовой электроники и других передовых областях.
J. Robinson более осторожен: он полагает, что разработка государствами промышленной политики необязательно является гарантией ее успеха, если только это не зависит от политических стимулов, которые мотивируют такие проекты развития. В этом смысле «успешное продвижение промышленности требует изменения политического баланса таким образом, чтобы интересы тех, кто управляет государством, совпадали с интересами всего общества» [28].
Коллектив китайских исследователей под руководством Q. Luo в своих трудах пишет о том, что опыт развития традиционных особых экономических зон показывает, каким образом специальная политика может стать важной движущей силой экономического развития одного региона и превратить его в центр экономического роста для других областей [29]. По мнению авторов, это было достигнуто с помощью диффузионных механизмов осо- бых экономических зон, которые оказывали влияние на соседние регионы посредством передачи промышленности, перемещения талантов, имитации бизнес-стратегий и институциональных стратегий. Таким образом, успех стратегии и политики, проводимой особыми экономическими зонами, был отражен в промышленном развитии не только этих городов, но и прилегающих регионов благодаря прогрессивному процессу агломерации и распространения знаний.
Тем не менее в специализированной литературе [30–34] существует консенсус в утверждении, что простое решение о создании особых экономических зон, разработке плана развития или даже широком формировании инфраструктуры, необходимой для их функционирования, не приведет к успеху, если этот процесс не вписывается в общую стратегию региона. Эффективность функционирования таких территорий не гарантируется простым свободным доступом к прямым иностранным инвестициям и налоговыми льготами.
Это позволяет нам прийти к выводу, что успех особых территорий развития не только является результатом создания на начальном этапе нужных стимулов для инвестиционной активности или политической воли, но и определяется степенью учета местных особенностей при планировании. Стратегический дизайн, национальная институциональная среда, различные меры поддержки со стороны государства являются фундаментальными элементами успеха особых экономических зон. Правильные меры и стратегии могут способствовать активизации производственных факторов, ошибочные решения – затруднить и ослабить этот процесс. Для своевременного принятия решений о необходимости корректировки политики формирования новых и поддержки действующих зон развития требуется адекватная методика анализа их эффекта, которая и будет представлена далее.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
Методология исследования опирается на институциональную экономическую теорию, и, как отмечает один из ведущих отечественных институционалистов, профессор А. А. Аузан, для анализа «воздействия институтов на экономический рост с точки зрения определения приоритетов их развития в условиях экономической модернизации» целесообразным является применение корреляционного анализа индикаторов экономического развития с последовательностью тех или иных институциональных преобразований в среднесрочной перспективе [35, с. 65].
В исследовании О. С. Сухарева «Теория эффективности экономики: организационный, институциональный и системный ракурс проблемы» обосновывается, что эффективность функционирования экономики «зависит от институциональных условий, инвестиций в образование и науку, исходного состояния фондовой базы экономической системы и производственной (технологической) эффективности» [36].
Экономико-функциональное разграничение регионов считается важнейшим исходным элементом, поскольку, опираясь именно на функциональность различных экономических концентраций в исследуемом пространстве, можно понять функционирование экономической деятельности, выходя за рамки искусственных границ, налагаемых административно-политическими единицами. Применение различных методов, среди которых особое внимание уделяется определению зон концентрации и анализу взаимодействия между ними в рамках пространственного подхода к экономике, является важной частью изучения отношений, сложившихся внутри региона. Для этого требуется применение индексов, пространственной эконометрики, регионального анализа вводимых ресурсов.
Для достижения поставленной цели оценки эффективности особых экономических зон как инструмента развития субъекта РФ обозначим, какие экономические показатели могут быть использованы для анализа.
Основные эффекты, которые органы власти ожидают от создания особых экономических зон, заключаются в ускорении роста ВРП региона и инвестиций, а также в увеличении занятости за счет создания новых рабочих мест. Именно их мы будем оценивать. В зависимости от типа особых экономических зон можно предполагать и повышение отраслевых показателей экономического роста. В связи с длительностью реализации инвестиционных проектов указанные эффекты являются отложенными, и органы власти рассчитывают получить результат приблизительно через 10 лет, устанавливая льготы именно на этот период.
В развитие особых экономических зон вкладываются значительные бюджетные средства. Так, согласно пятому выпуску Бизнес-навигатора по особым экономическим зонам России, по состоянию на 1 января 2021 г. сумма вложений федерального и регионального бюджетов, а также средств управляющих компаний в создание инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особых экономических зон составила 217,8 млрд руб. Кроме того, резидентам особых экономических зон были предоставлены суммарные налоговые, таможенные льготы и льготы по уплате страховых взносов в размере 84,2 млрд руб. [2, с. 19–20].
Существенные прямые и косвенные затраты на создание и функционирование особых экономических зон требуют осмысления эффективности данного института с точки зрения влияния на эффективность развития региона.
В указанном отчетном документе с целью демонстрации эффективности особых экономических зон с позиции формирования нового качества экономического роста представлена динамика с 2012 по 2020 г. доли частных инвестиций и производительности труда по совокупности особых экономиче- ских зон и в целом по стране [2, с. 20]. Полагаем, что такое сравнение нерепрезентативно, поскольку сравниваться должны однотипные объекты (либо регионы, на территории которых функционируют особые экономические зоны, с территориями, на которых нет ОЭЗ, либо особые экономические зоны с иными институтами развития, например кластерами).
Правила оценки эффективности функционирования особых экономических зон 1 сосредоточены на показателях, отражающих: – эффективность деятельности резидентов особой экономической зоны;
– рентабельность вложения бюджетных средств в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особых экономических зон;
– эффективность деятельности органов управления особыми экономическими зонами;
– эффективность планирования при создании особых экономических зон.
Лишь с 2019 г. в систему показателей введена оценка вклада особых экономических зон в достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По смыслу только последний показатель увязан с оценкой эффекта особых экономических зон для развития экономики региона и страны. Однако посмотрим на содержание данного показателя. Он рассчитывается как среднее значение трех переменных: прироста в процентах количества рабочих мест, созданных резидентами на территории особых экономических зон; выручки резидентов, полученной в результате экспорта несырьевых неэнергетических товаров и оказываемых услуг; прироста производительности труда резидентов за год проведения оценки в сравнении с годом, предшествующим году проведения оценки. Используемая на государственном уровне методика не отражает реального вклада особых экономических зон в развитие экономического пространства России, а сосредоточена лишь на оценке динамики развития самой особой экономической зоны и ее рентабельности как инвестиционного проекта государства.
Кроме того, установленный нормативным правовым актом подход не учитывает динамизм экономического развития страны и отдельных ее регионов, что не позволяет понять, насколько существенное влияние оказывают создание и поддержка особых экономических зон на увеличение темпов экономического роста территории.
Для решения задачи оценки эффекта особых экономических зон как инструмента развития субъекта РФ авторы обращаются к методологии сравнительного анализа и доказательной политики – современному подходу принятия регуляторных решений на основе объективных доказательств эффективности различных политик через анализ моделей на базе широкого набора данных.
МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТА ДЕЙСТВИЯ ОСОБЫХЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
В качестве ключевых методов оценки эффектов действия особых экономических зон выбраны естественный эксперимент и эконометрическое моделирование эффекта влияния изучаемого института на параметры развития региональной системы как наиболее подходящие для анализа эффекта государственной политики, реализованной на части территории страны [37–41].
В эмпирических исследованиях влияние бинарных эффектов одной переменной на другую часто оценивается путем управления определенным набором третьих переменных. Все наблюдения делятся на две группы: группу воздействия и контрольную группу. В первую группу вошли регионы с особыми экономическими зонами, в качестве контрольной группы выступают остальные субъекты РФ, в которых особые экономические зоны не создавались. Сравнение результатов двух групп может быть интерпретировано с точки зрения эффекта и существования причинно-следственной связи между экспериментальной и контрольной группами.
Мы используем панельные данные по субъектам РФ за период 2010–2020 гг. из сборника статистических данных Росстата по регионам России 1 . Из выборки исключены данные по городу федерального значения Севастополю и Республике Крым ввиду их принятия в состав Российской Федерации лишь в 2014 г. В исследовании используется двухпериодная панельная регрессия.
В качестве экспериментальной группы рассмотрим субъекты РФ, в которых были созданы особые экономические зоны в период с 2005 по 2017 г. В экспериментальную группу не включены субъекты РФ, в которых особые экономические зоны образованы позже, поскольку учтен лаг воздействия особых экономических зон на экономическую систему региона (не менее двух лет уходит на формирование базовой инфраструктуры и привлечение достаточного пула резидентов).
Введем фиктивную переменную D i , обозначающую наличие или отсутствие особых экономических зон в субъекте РФ:
1, если в регионе создана
D i
= <
ОЭЗ в период по 2017 г.
0, если в регионе не создавалась
ОЭЗ в период по 2017 г.
Параметр, характеризующий уровень экономического развития региона, обозначим как Y i (1), если в субъекте РФ создана ОЭЗ, и Y i (0) - в противном случае.
Эффект воздействия на экономику региона от создания ОЭЗ ( treatment effect ) для i-го субъекта РФ будет равен разнице параметра уровня экономического развития Y i в случае создания и в случае отсутствия ОЭЗ:
TE = Y .(1) - Y (0). (2)
Мы не можем одновременно наблюдать Y i (1) и Y i (0), поэтому для записи значения параметра уровня развития воспользуемся введенной ранее фиктивной переменной:
Y = Y(0) + D . x ( Y (1) - Y . (0)). (3)
Чтобы понять влияние особых экономических зон, нам необходимо оценить средний эффект воздействия ( average treatment effect ) через математическое ожидание разности значений параметра для случая создания ОЭЗ и для случая ее отсутствия:
ATE = E ( Y (1) - Y (0)). (4)
В данном естественном эксперименте мы имеем эффект смещения α, суть которого состоит в следующем. Особые экономические зоны чаще всего создаются в регионах, обладающих заделом для развития определенной сферы (например, ОЭЗ промышленного типа в регионах с высоким производственным потенциалом, туристско-рекреационного типа – в регионах с развитой туристической инфраструктурой), а иногда, наоборот, в отстающих в развитии регионах с целью стимулирования роста, что приводит к смещению динамики параметра развития в этих регионах в сравнении с медианными. Наличие эффекта смещения не позволяет оценивать математическое ожидание разности Y i (1) и Y i (0) через разность их математических ожиданий и вызывает необходимость прибегнуть к методу разности разностей [39–41].
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: стат. сб. М.: Росстат, 2022. 1122 с.
Базовая эконометрическая модель исследования представляет параметр, характеризующий уровень экономического развития региона (в качестве таких показателей рассмотрены валовой продукт, инвестиции и занятость), через регрессию:
Yit =α i +µ t + Di ×δ+ε it , (5)
где α i – индивидуальный эффект субъекта РФ (приводящий к смещению, описанный выше); μ t – временной эффект; D i – фиктивная переменная с учетом периода; δ – эффект воздействия создания особой экономической зоны; ε it – случайная ошибка.
Временной эффект будет показывать влияние общей динамики экономического развития в пространстве страны на исследуемый параметр, а слагаемое D i × δ будет представлять вклад особой экономической зоны в изменение параметра (поскольку D i в регионах, где такие зоны не создавались, равно 0, то и данное слагаемое для них обнулится).
Покажем, что эффект воздействия создания особой экономической зоны δ будет равен математическому ожиданию разности значений параметра для случая создания ОЭЗ и ее отсутствия ATE , т.е. может быть использован метод разности разностей. Проведем рассуждения, аналогичные представленным в трудах O. Ashenfelter , D. Card и A. B. Krueger [40; 41] выкладкам, демонстрирующим применимость метода разности разностей для оценки эффекта воздействия государственных мер на отдельные группы (выборочные территории или организации в стране).
Определим ожидаемое значение параметра экономического развития региона, где планируется применение исследуемой меры государственного воздействия, до создания особых экономических зон в стране:
E(Yit i- регион экспериментальной группы, t -до создания ОЭЗ) = (6) = αэксп +µдо.
Определим ожидаемое значение параметра экономического развития в этом регионе после создания особых экономических зон в стране на момент проведения оценки:
E ( Yit i - экспериментальная группа, t - после создания ОЭЗ) = (7)
=α
эксп
+ µ после +δ .
Вычитая из второго математического ожидания первое, получим ожидаемое изменение параметра экономического развития в этом регионе:
∆ эксп = µ после -µ до +δ . (8)
Теперь рассмотрим контрольную группу регионов, где государством не применялся инструмент особых экономических зон. Ожидаемое значение параметра экономического развития региона в них до создания особых экономических зон в стране:
E ( Y it i - регион контрольной группы,
(9) t - до создания ОЭЗ) = α контр +µ до.
Ожидаемое значение параметра экономического развития в данных субъектах РФ после создания особых экономических зон в стране:
E ( Y it i - контрольная группа, t - после создания ОЭЗ) =α контр +µ после.
Ожидаемое изменение параметра экономического развития в регионах контрольной группы получаем вычитанием из уравнения (10) выражения (9):
контр = µ после -µ до .
Разность выражений (8) и (11) позволяет нам получить выражение для эффекта δ как разность ожидаемых изменений параметра экономического развития в регионах экспериментальной и контрольной групп, что сов- падает с показателем ATE, представленным формулой (4):
$ = АЭКсп — ^КОНТР = ATE . (12)
эксп контр
Таким образом, мы показали, что состоятельную оценку среднего эффекта воздействия можно рассчитать через разность разностей воздействия в экспериментальной и контрольной группах:
ATE = A tre„
^^^^н
A control
E ( Y it | i e treatment , t = 2020 ) —
— E ( Y't|i e treatment , t = 2010 )
E ( Yt |i e control , t = 2020 ) —
— E ( Yit |i e control , t = 2010 )
’ | Ytreatment , 2020 Ytreatment , 2010 ]
I Y contfol , 2020 Ycontrol , 2010 I .
Таким образом, формула (13) позволит оценить средний эффект воздействия от формирования ОЭЗ в субъекте РФ на изменение за 10-летний период показателей ВРП региона, инвестиций и занятости с учетом, во-первых, общей динамики экономического развития в пространстве страны, во-вторых, эффекта смещения из-за самоотбора при определении территорий для создания особых экономических зон.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Экспериментальную группу составили 18 субъектов РФ, в которых особые экономические зоны были созданы с 2005 по 2017 г. и продолжали функционировать в период проведения исследования (с учетом отложенного во времени фактического полноценного функционирования особой экономической зоны относительно ее формального появления): Калужская, Липецкая, Московская, Тверская, Тульская, Псковская, Астраханская, Самарская,
Саратовская, Ульяновская, Свердловская, Иркутская, Томская области, Алтайский край, Республики Татарстан и Бурятия, два города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. Контрольную группу составляют остальные 62 субъекта РФ, за исключением территорий, вошедших в состав государства после 2014 г. Динамика параметров развития оценивалась по формуле (13), согласно которой мы используем разность значений средних по выборке контрольной и экспериментальной групп регионов в начальный и конечный периоды (2010 и 2020 гг.).
Учитывая особый статус города федерального значения Москвы, приводящий к концентрации в данном субъекте РФ инвестиций и человеческих ресурсов, отметим, что значения показателей данного региона представляют собой существенные выбросы во многих региональных моделях. Поэтому оценка по формуле (13) проведена для двух выборок: с учетом г. Москвы и с его исключением (табл.).
Полученные результаты показывают, что при включении г. Москвы в выборку наблюдается положительный эффект воздействия от формирования особой экономической зоны в субъекте РФ на динамику за прошедшую декаду показателей инвестиций и занятости, а по ВРП региона имеется отрицательный эффект. Другими словами, в сравнении с тенденциями на всем пространстве страны за декаду после 2010 г. в среднем на регион в субъектах РФ, где созданы особые экономические зоны в период по 2017 г. (экспериментальная группа), ВРП на душу населения увеличился в сравнении с субъектами РФ, где их не было (контрольная группа), в среднем на меньшую величину, инвестиции в основной капитал – в 3 раза больше приросли в экспериментальной группе, а уровень падения среднегодовой численности занятых в экспериментальной группе в 7 раз меньше.
Однако при исключении г. Москвы из выборки наблюдаем совершенно иную картину. Положительный эффект заметен только по показателю инвестиций в основной капитал.
Табл. Оценка эффекта влияния создания особых экономических зон на показатели экономического развития субъекта РФ
Table. Special economic zones’ impact on the economic growth of the RF federal districts
|
Показатель |
ВРП на душу населения в текущих основных ценах, руб. |
Инвестиции в основной капитал в фактических ценах, млн руб. |
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. |
|
Выборка по регионам с учетом г. Москвы |
|||
|
treatment , 2020 |
344 488 |
285 446 |
–6,1 |
|
-У , , _ treatment , 2010 |
|||
|
Y , - control , 2020 |
347 082 |
88 331 |
–46,3 |
|
-У , control , 2010 |
|||
|
Эффект от создания особой экономической зоны |
–2 594 |
197 115 |
40,2 |
|
Выборка по регионам, |
за исключением г. Москвы |
||
|
У , , treatment , 2020 |
315 524 |
135 481 |
–51,7 |
|
treatment , 2010 |
|||
|
control , 2020 |
347 082 |
88 331 |
–46,3 |
|
control , 2010 |
|||
|
Эффект от создания особой экономической зоны |
–31 558 |
47 150 |
–5,4 |
Примечание. В выборку регионов с ОЭЗ включены субъекты РФ, в которых они были созданы с 2005 по 2017 г. и действовали по состоянию на 1 января 2021 г., исключены Республика Крым и г. Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области ввиду отсутствия данных по состоянию на 2010 г.
Источники : Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: стат. сб. М.: Росстат, 2021. С. 118– 119, 473–474; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: стат. сб. М.: Росстат, 2022. С. 462–463.
При этом средний эффект, умноженный на всю совокупность экспериментальных регионов, дает прирост по экспериментальной группе в размере 848,7 млрд руб., из которых, по существу, 217,8 млрд руб. являются бюджетными инвестициями.
По показателям «ВРП на душу населения» и «среднегодовая численность занятых» для экспериментальной группы обнаруживается отрицательный средний эффект (в среднем в регионах с особыми экономическими зонами прирост ВРП меньше на 31,6 тыс. руб., а сокращение численности занятых выше на 5 тыс.
человек), что говорит о неадекватности выбранной институциональной модели экономического развития территорий.
В связи с этим необходимо разработать соответствующую экономическую политику, которая будет способствовать повышению уровня производительности и конкурентоспособности отечественных предприятий, с тем чтобы они могли предлагать конкурентоспособные цены и промежуточные товары и ресурсы с соблюдением стандартов качества, требуемых зонами свободной торговли для их производства.
ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация в России на протяжении более чем 15 лет институциональной модели развития в экономическом пространстве страны путем формирования в отдельных территориях особых экономических зон как полюсов роста, предоставляющих таможенные и налоговые льготы с инфраструктурной обеспеченностью с целью привлечения иностранных инвестиций и внутренних производителей, позволяет рассматривать этот процесс как естественный эксперимент.
Сравнение индикаторов развития по достаточно широкой экспериментальной группе регионов, где сформированы особые экономические зоны, с данными по остальным субъектам РФ, которые отнесены к контрольной группе, позволило оценить эффект от создания особых территорий объективнее, чем с помощью установленных на государственном уровне методик, сконцентрированных на анализе динамики показателей роста самой зоны в рассматриваемом периоде по сравнению с предыдущими годами. Проведенное исследование подтверждает перспективность применения подходов доказательной политики в государственном управлении.
Авторская методика позволяет вычленить эффект особых экономических зон из общероссийских тенденций в экономике, а также избежать при расчетах эффекта смещения из-за самоотбора, возникающего вследствие принятия решения о создании зоны не случайным образом, а по инициативе руководства субъекта РФ и в случае соответствия установленным критериям.
Проведенный анализ при исключении из выборки г. Москвы показал в целом неудовлетворительный эффект от создания особых экономических зон в первую очередь по показателям «ВРП на душу населения» и «среднегодовая численность занятых», по которым в экспериментальной группе обнаружился отрицательный средний эффект. Это вызывает озабоченность наряду с проблемой «пере- тягивания ресурсов» соседних территорий по принципу «черных дыр», которую обозначил профессор А. Н. Швецов [42, с. 40]. При этом положительный эффект выявлен по показателю «инвестиции в основной капитал», увеличение которого является основной целью создания особых экономических зон. С этой точки зрения особые экономические зоны показывают себя как эффективный инструмент, позволяющий привлечь около двух рублей на один рубль бюджетных затрат (включая прямые затраты на инфраструктуру и упущенные доходы от налоговых и таможенных платежей).
Полученные результаты говорят как о неадекватности выбранной институциональной модели экономического развития территорий, так и о неэффективности использования привлеченных инвестиций. Это подтверждает выводы отдельных исследований о том, что не для всех типов государств особые экономические зоны могут стать инструментом развития, а также коррелирует с выводами эксперта в сфере региональной экономики О. В. Кузнецовой о том, что на сегодняшний день сохраняются нерешенные проблемы в федеральной политике пространственного развития, связанные с ее «стихийным» характером и оторванностью от реального потенциала территорий, в том числе по причине отсутствия статистики и оценок такого потенциала, с разобщенностью мер поддержки научнотехнологического развития регионов [43, c. 5].
Анализ по двум выборкам (с г. Москвой и без него) показывает, что данный город федерального значения продолжает выступать главной «черной дырой», катастрофически высасывая человеческие и инвестиционные ресурсы не только из малых городов, но и из промышленных центров страны. Предложенная оценка эффекта особых экономических зон в масштабе страны не учитывает перетягивания ресурсов из соседних регионов, что требует отдельного детального анализа в будущем.
Сложившиеся в 2022 г. геополитические условия с беспрецедентным санкционным давлением на экономику России создают высокий риск угрозы прекращения функционирования отдельных экономических зон из-за ухода якорных зарубежных резидентов, а также дальнейшего снижения эффективности функционирования зон. При этом уже действующие объекты со сложившимися в них кооперациями могут стать площадками для развития импортозамещающих производств и внутреннего туризма.
В настоящее время 85 % особых экономических зон расположены западнее Уральских гор. С учетом происходящей трансформационной перестройки внешнеэкономических связей и экспортно-импортных потоков, представляется целесообразным размещение особых экономических зон в дальневосточной части страны, что подчеркивает перспективность текущей деятельности государства по формированию территорий опережающего социально-экономического развития в восточных территориях для решения вопросов сбалансированного развития экономики России. Однако отметим, что вопрос о необходимости формирования точек роста в данных территориях специалистами в сфере региональной политики поднимался еще в начале 2000-х гг., на заре появления ОЭЗ [44], и с тех пор не исчезает из повестки [45].
В случае продолжения государственной политики поддержки и расширения географии особых экономических зон требуется пересмотр техник управления ими, а также корректировка подходов к их размещению в пространстве страны, до сих пор иногда воспроизводящих «советские планово-размещенче-ские алгоритмы госуправления» [46]. Сформулируем ряд подходов к решению этой задачи.
Первая рекомендация может быть направлена на создание особых экономических зон, которые намного шире существующих, поскольку традиционная схема, используемая в России, основана на создании технопарков, что затрудняет создание кластеров, ориентированных на производство, закупки или логистику, а также любых других видов про- изводственной цепочки, которые могут связывать предприятия особых экономических зон с предприятиями национальной экономики.
Один из аргументов, используемых для оправдания слабого взаимодействия между особыми экономическими зонами и национальной экономикой, заключается в том, что продукция, производимая в последней, не соответствует стандартам качества, требуемым такими зонами. Для устранения этого недостатка особые экономические зоны должны устанавливать партнерские отношения с местными поставщиками с помощью таких схем сотрудничества, как бенчмаркинг, чтобы иметь возможность передавать поставщикам в национальной экономике свои знания о передовой практике и помогать им производить товары и услуги в соответствии с точными стандартами качества. Этот вид деятельности должен сопровождаться укреплением государственных учреждений, ответственных за разработку технических стандартов, проверку, калибровку и сертификацию инструментов посредничества, которые должны иметь сертификаты и аккредитации основных органов по стандартизации и качеству во всем мире.
Аналогичным образом необходимо разработать необходимую политику, которая позволит снизить высокие затраты на электроэнергию и наземные перевозки грузов – факторы, которые в равной степени влияют на производственные затраты в особых экономических зонах свободной торговли и национальных компаниях. Последние, не имея таких же преимуществ, как особые экономические зоны, несут более высокие производственные затраты, что отражается на цене конечных товаров и услуг, производимых ими, что влияет на уровень их конкурентоспособности.
Это дает возможность сделать вывод, что успех индустриализационного проекта не только является результатом создания на начальном этапе правильных стимулов для инвестиций или политической воли групп влияния, но и заключается в постоянном процессе ознакомления с местными реалиями, оценке использования конкурентных преимуществ территории и принятии решений, позволяющих направлять и активизировать производственные факторы прагматичным и взвешенным образом в долгосрочной перспективе.
Работа может быть использована для дальнейших исследований и научного обоснования формирования эффективной государственной политики выхода из стагнации и обеспечения уверенных конкурентных позиций страны и ее регионов. Необходимо провести исследования, которые помогут определить влияние особых экономических зон на локальное развитие в местах их создания, а также ключевые факторы, которые принимаются во внимание при выборе географи- ческого местоположения парков и предприятий особых экономических зон. Целесообразным представляется более дифференцированный подход в исследовании, выявление максимально продуктивных типов специальных зон, факторов успешности отдельных территорий.
Список литературы Особые экономические зоны: эконометрическая оценка эффектов и перспективы развития
- Кощеев Д. А., Миролюбова Т. В. Оценка взаимовлияния региона и индустриального кластера: системно-пространственный подход // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2022. Т. 17, № 2. С. 161–184. https://doi.org/ 10.17072/1994-9960-2022-2-161-184
- Бухарова М. М., Андреев А. Н., Бододько Р. Ф., Гуляева Д. А., Зверков В. И., Кравченко Е. И., Лабудин М. А, Мальбахов М. К., Новикова А. Р., Серёгин М. С., Суров В. А., Шпиленко А. В. Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам России – 2021. Вып. 5. М.: АКИТ РФ, 2021. 265 с.
- Гончаренко В. Е., Коробова В. Ф. Оценка неравномерности развития регионов РФ по социально-экономическим ресурсным составляющим // Статистика и экономика. 2019. № 4. С. 54–72. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2019-4-54-72
- Пансков В. Г. Особые экономические зоны: итоги и перспективы развития // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2018. № 6. С. 39–53. https://doi.org/10.24411/2071-6435-2018-10057
- Aggarwal A. Special economic zones: Revisiting the policy debate // Economic and Political Weekly. 2006. Vol. 41, no. 43/44. P. 4533–4536. URL: http://www.jstor.org/stable/4418855 (дата обращения: 28.11.2021).
- Akinci G., Crittle J. Special economic zone: Performance, lessons learned, and implication for zone development (English). Foreign Investment Advisory Service (FIAS) occasional paper. Washing-ton, DC: World Bank, 2008. 83 p.
- Basile R., Castellani D., Zanfei A. Location choices of multinational firms in Europe: The role of national boundaries and EU policy. University of Urbino, Economics, Mathematics & Statistics Working Paper No. 78.2003; Centro Studi Luca d’Agliano Development Studies Working Papers. 34 p. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.455040
- Bidwai P. India: Special economic zones, path to massive land grab // National Interest vs People’s Interest: A space for social movements and citizens initiatives. Inter Press Service, 2006. P. 22–25.
- Gibbon P. (Ed.) Export Processing Zones as an economic development strategy / Danish Institute for International Studies study for Danish Foreign Ministry. 2008. 35 p.
- Narula R., Zhan J. X. Using special economic zones to facilitate development: Policy implications // Transnational Corporations. 2019. Vol. 26, iss. 2. P. 1–26. https://doi.org/10.18356/72e19b3c-en
- Gabriel A. V. Las Zonas Económicas Espe-ciales de la República Popular China: Rol del Estado y desarrollo de Clusters High-Tech. Santiago de Chile, 2020. 50 p.
- Farole T., Akinci G. Special economic zones: Progress, emerging challenges, and future directions. The World Bank, 2011. 21 p.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. Working Paper 10481. Cambridge: NBER, 2004. 111 p. https://doi.org/10.3386/w10481
- Лексин В. Н., Швецов А. Н. Общегосударственная система стратегического планирования территориального развития // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2006. Т. 22. С. 192–212.
- Климанов В. В., Ивасько Е. В., Коротких А. М. Практика внедрения территориального подхода в систему государственного управления в Российской Федерации // Регион: экономика и социология. 2017. № 1 (93). С. 3–21. https://doi.org/10.15372/ REG20170101
- Глазьев С. Ю., Гранберг А. Г. Обоснование государственной региональной политики в России: отчет о НИР «Стратегические направления территориального развития России» (заключитель-ный). М.: ГУУ, 2010. 49 с.
- Адигамова Ф. Ф., Андреева М. Ю., Балан-дина А. С. Особые экономические зоны. Зарубежный и отечественный опыт: монография. М.: Юнити-Дана, 2017. 287 с.
- Golubkin I. V., Bukharova M. M., Danilov L., Zverkov V., Labudin M. Russian Special Economic Zones: Business Navigator 2018. Moscow: Ассоциа-ция развития кластеров и технопарков России, 2019. 148 p.
- Фрумина С. В. Особые экономические зоны: введение в теорию вопроса // Финансы и кредит. 2019. Т. 25, вып. 1. С. 39–54. https://doi.org/ 10.24891/fc.25.1.39
- Попов В. Р. Особые экономические зоны как инструмент управления инновационно- ндустриальным развитием экономики региона // Colloquium-journal. 2019. № 2 (26). С. 49–56.
- Морковкин Д. Е. Современные инструменты пространственного регулирования ускоренного социально-экономического развития России // Муниципальная академия. 2017. № 2. С. 25–36.
- Сухарев О. С., Ильина О. Б. Анализ региональной экономической системы типа особой экономической зоны на основе методов структурного сдвига // Экономика региона. 2012. № 3. С. 249–260. https://doi.org/10.17059/2012-3-25
- Сухарев О. С. Институциональная теория экономического роста: доклад. М.: Институт экономики РАН, 2015. 44 с.
- Сухарев О. С. Экономический рост и реструктуризация: теоретические критерии и модели управления // Экономика и предпринимательство. 2015. Т. 9, № 8-1. С. 100–113.
- Попов Е. В., Кац И. С. Институциональные особенности эволюции сектора общественных благ // Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление. 2009. № 5. С. 4–18.
- Yiming Y. Internal Causes for Shenzhen’s Industrial Development and Structural Evolution: An Explanation from the Perspective of Institutional Change // Studies on China’s Special Economic Zones 2. Research Series on the Chinese Dream and China’s Development Path. Singapore: Springer, 2019. P. 11–22. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6675-8_2
- Yiming Y., Lei H. The Poverty Reduction Effect of China’s Special Economic Zones – Case Study of Shenzhen // Studies on China’s Special Economic Zones 3. Research Series on the Chinese Dream and China’s development Path. Singapore: Springer, 2020. P. 1–20. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-9841-4_1
- Robinson J. Industrial Policy and Develop-ment. Harvard: Harvard University, 2009. 31 p.
- Qinghe L., Fang W., Zhenfeng Z., Xiao K. A Study of Special Economic Zone Transformation and the China Model. In: Studies on China’s Special Eco-nomic Zones, Research Series on the Chinese Dream and China’s Development Path. Singapore: Springer, 2017. P. 65–90. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3704-7_6
- Farole T., Moberg L. It worked in China, so why not in Africa? The political economy challenge of Special Economic Zones. WIDER Working Paper 2014/152. Helsinki: UNU-WIDER, 2014. 21 p. https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2014/873-5
- Huang J. Report on the Development of the Shantou Special Economic Zone // Annual Report on the Development of China’s Special Economic Zones. Singapore: Springer, 2019. P. 131–140. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9837-7_9
- Mukherjee A., Pal P., Deb S., Ray S., Goyal T. M. Special Economic Zones in India: Status, Issues and Potential. New Delhi: Springer, 2016. 254 p. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2806-6
- Yitao T., Zhiguo L. Special Economic Zones and China’s Development Path. Singapore: Springer, 2018. 277 p. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3220-2
- Wu F., Ma Z. Report on the Development of the Shenzhen Special Economic Zone // Annual Report on the Development of China’s Special Economic Zones. Blue Book of China’s Special Economic Zones. Singapore: Springer, 2018. P. 93–111. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9837-7_7
- Аузан А., Сатаров Г. Приоритеты институциональных преобразований в условиях экономической модернизации // Вопросы экономики. 2012. № 6. С. 65–73. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-6-65-73
- Сухарев О. С. Теория эффективности экономики: организационный, институциональный и системный ракурс проблемы // Экономика и предпринимательство. 2010. № 6 (17). С. 5–17.
- Авдашева С. Б., Корнеева Д. В. Конкурентная политика на экспортоориентированных рын-ках: действительно ли компенсирующие меры эффективны? // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 20, № 3. С. 442–470.
- Тухтарова Е. Х. Естественные эксперименты в экономике // Human Progress. 2022. Т. 8, вып. 3. С. 10. https://doi.org/10.34709/IM.183.10
- Шагас Н. Л., Рощина Я. А., Кочергин А. В., Картаев Ф. С., Буданова М. М., Котлобовский И. Б., Лукаш Е. Н., Добронравова Е. П., Чахоян В. А., Бабаскин С. Я., Никитин С. А., Петренева Е. А., Лугачев М. И., Скрипкин К. Г., Липунцов Ю. П. Математические и инструментальные методы в современных экономических исследованиях. М.: МГУ, 2018. 232 с.
- Ashenfelter O., Card D. Using the longitudinal structure of earnings to estimate the effect of training programs // The Review of Economics and Statistics. 1985. Vol. 67, no. 4. P. 648–660. https://doi.org/ 10.2307/1924810
- Card D., Krueger A. B. Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania // American Economic Review. 1994. Vol. 84, no. 4. P. 772–793.
- Швецов А. Н. «Точки роста» или «черные дыры»? (К вопросу об эффективности применения «зональных» инструментов госстимулирования экономической динамики территорий) // Российский экономический журнал. 2016. № 3. С. 40–61.
- Кузнецова О. В. Научно-технологические приоритеты в федеральной политике пространственного развития в России // Федерализм. 2022. Т. 27, № 4 (108). С. 5–20. https://doi.org/10.21686/ 2073-1051-2022-4-5-20
- Андреева Е. Н., Зайончковская Ж. А., Кузнецова О. В. Лексин В. Н., Любовный В. Я., Скатер-щикова Е. Е., Ушаков А. К., Швецов А. Н. Стратегия для России: новое освоение Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1. М.: Совет по внешней и оборонной политике, 2001. 73 с.
- Климанов В. В., Казакова С. М. Особенности стратегического планирования развития Дальнего Востока России на федеральном уровне // Регио-нальные исследования. 2022. № 1 (75). С. 68–79. https://doi.org/10.5922/1994-5280-2022-1-6
- Швецов А. Н. Российское пространство в процессе исторических переходов (к разработке и реализации теории постсоветских системных преобразований организации социоэкономического пространства) // Российский экономический журнал. 2021. № 6. С. 66–100. https://doi.org/10.33983/ 0130-9757-2021-6-66-100