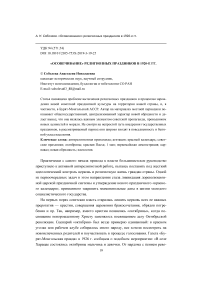"Осовечивание" религиозных праздников в 1920-е гг
Автор: Соболева Анастасия Николаевна
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме вытеснения религиозных праздников и процессам зарождения новой советской праздничной культуры на территории нашей страны, и, в частности, в Бурят-Монгольской АССР. Автор на материалах местной периодики показывает общегосударственный, централизованный характер новой обрядности и делает вывод, что она являлась важным элементом советской пропаганды, проводником новых ценностей и морали. Не смотря на непростой путь внедрения государственных праздников, в рассматриваемый период они широко входят в повседневность и бытовой уклад населения.
Антирелигиозная пропаганда, агитация, красный календарь, советские праздники, октябрины, красная пасха, 1 мая, первомайская демонстрация, карнавал, новая обрядность, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/148317465
IDR: 148317465 | УДК: 94 | DOI: 10.18101/2305-753X-2019-3-19-25
Текст научной статьи "Осовечивание" религиозных праздников в 1920-е гг
Практически с самого начала прихода к власти большевистское руководство приступило к активной антирелигиозной работе, пытаясь поставить под жесткий идеологический контроль церковь и религиозную жизнь граждан страны. Одной из первоочередных задач в этом направлении стала ликвидация дореволюционной царской праздничной системы и утверждение нового праздничного «красного календаря», призванного закрепить знаменательные даты в жизни молодого социалистического государства.
На первых порах советская власть старалась лишить церковь всех ее важных прерогатив — крестин, совершения церемония бракосочетания, обрядов погребения и пр. Так, например, вместо крестин появились «октябрины», когда посвящение новорожденному Христу заменялось посвящением делу Октябрьской революции. Сценарий «октябрин» был везде примерно одинаковый: в красном уголке или рабочем клубе собиралось много народу, все хотели посмотреть на новоиспеченных родителей и поучаствовать в процессе голосования. Газета «Бурят-Монгольская правда» в 1926 г. сообщала о подобном мероприятии: «В селе Харацае состоялись октябрины мальчика и девочки. От нардома с пением рево- 19
люционных песен пошли встречать новорожденных. Народу в нардоме собралось около 250 чел. Имя мальчику Владлен публика без всяких отклонений приняла. Девочку родители хотели назвать Галина, но присутствующие стали предлагать свои имена: Комминтерия, Дотрина, Роза. Отец предоставил выбирать имя присутствующим, и единогласно прошло имя Роза. Публика торжеством осталась очень довольна, особенно когда женделегатки вручили новорожденным подарки. По окончанию октябрин среди расходившихся можно было слышать: «обязательно теперь октябрить буду, а не крестить» [9, с. 4].
На смену церковному венчанию стали вводиться «красные свадьбы», которые из семейных торжеств превращались в общественно-политическое событие и служили дополнительным поводом для антирелигиозной пропаганды. По обоюдному согласию жениха и невесты брак молодых регистрировал секретарь комсомольской ячейки, вместо икон использовались портреты пролетарских вождей, а стол для регистрации был покрыт красной скатертью. На свадьбе не присутствовали родители жениха и невесты, а после не было никаких праздничных застолий, обручальные кольца также воспринимались как нежелательные пережитки прошлого: «мать венчать меня хотела по старинке с кольцами, по-другому вышло дело в клубе с комсомольцами».
В Бурят-Монгольской АССР первая такая свадьба состоялась в августе 1928 г. «Свадебный поезд был украшен красными флажками, бубенцами и лозунгами: «Красная свадьба — новые традиции», «Красная свадьба — крах колыму», «Красная свадьба — переворот на бытовом фронте улуса» [14, с. 114].
7 декабря 1918 г. вышел декрет «О кладбищах и похоронах», который передавал все кладбища и морги, а также саму организацию похорон в ведение местных Советов, устанавливал одинаковые похороны для всех граждан, упразднял оплату мест на кладбищах. Обязательным атрибутом «красных похорон» являлся красный гроб, флаги и ленты на венках.
В 1925 г. в республике учениками Кульской школы I ступени был похоронен товарищ по школьной скамье. Молодые люди несли гроб под пение революционных песен «хороша наша деревня, среди улицы тропа. Друга нынче мы хороним, по-советски, без попа» [7, с. 2].
Безусловно, внедрение «красных октябрин», «красных свадеб», «красных похорон» в патриархальные деревни и села не являлось одномоментным, а представляло собой длительный и сложный процесс. Местные попы и уставщики просили не давать детям «собачьих имен», называя это «бесовскими игрищами» [6, с. 2], а про усопших говорили «не примет их земля, разодетых в красные 20
одежды, да венками красными обложенными. Ни одного священника, ни одной иконы, ни одной молитвы, ни одного креста. Не по-божески как-то…» [5, с. 4].
Одним из главных дореволюционных религиозных праздников была Пасха. Если религия — это опиум для народа, то Пасха — его самая большая и опасная доза, считала советская власть и старалась сделать перенос эмоционального восприятия этого праздника на альтернативное советское торжество. Вместо привычного богослужения и цветного окрашивания яиц вводились новые обычаи. Например, устраивались антипасхальные карнавалы и шествия. В 1927 г. в дни празднования Пасхи в Верхнеудинске «антипасхальный карнавал захлестнул главные улицы города. Разношерстная толпа детей и стариков, юношей и девушек, мужчин и женщин, веселых и радостных, лилась неудержимым потоком. С гор спускались изогнутой лентой ряд повозок, облитых красным огнем факелов. Впереди карнавального шествия бутафорский попик в камилавке, ризе и кадилом расписывал ногами причудливые «крендели». Зрители хохотали. Вот картонный паровоз, за ним целая коллекция: «Осоавиахим», «кооперация», «санитарная помощь» [12, с. 4].
К концу 1920-х гг. Пасху сделали полноценным рабочим днем. Школьникам читались антипасхальные лекции, в которых рассказывалось, что подобные гулянья приводят к хулиганству и пьянству. В колхозах Пасха также была обыкновенным днем: бригадам выдавали рабочие задания подальше в полях, а для детей организовали обязательные для посещения выездные экскурсии.
Сразу за православной Пасхой следовал Первомай — международный день трудящихся, праздник, который большевики переняли от социал-демократических движений США. Его новая власть попыталась предложить в качестве альтернативы Пасхи. «Во всех выступлениях и первомайских докладах необходимо провести отличия праздника 1 мая и Пасхи. Главная задача — отвлечь широкие массы от церкви и от пережитков старого быта» — отмечалась в официальных постановлениях [13, д. 107, л. 61].
Одно из первых совпадений Первомая и Пасхи произошло в 1921 г. Как и по всей стране, в Бурят-Монгольской АССР местная власть старались сделать все возможное для того, чтобы привлечь население к участию в новом советском празднике. 1 и 2 мая объявлялись нерабочими днями и заполнялись всевозможными мероприятиями.
Корреспонденты «Бурят-Монгольской правды» докладывали с мест: «в Боханском улусе митинг открылся под струнный оркестр. Были зачитаны приветствия и доклады. Вечером состоялся спектакль, а на следующий день объявлены состязания, борьба, бега»; «в селе Н. -Нукуте в демонстрации приняли 150 чел., которые после отправились в соседний улус Урда-Тангут. В открытой степи раздавались революционные песни, шли игры, стрельба из лука»; «В поселке Горячинск состоялся митинг, комсомольцы с шариками и флагами читали доклады, а после прошел торжественный концерт. 2 мая были устроены октябрины. Большое впечатление на жителей произвело, что мать ребенка — бывшая псаломщица» [2, с. 4].
Для максимального отвлечения население от религиозных праздников вводились новые сельскохозяйственные праздники. Например, в 1923 г. в газете «Правда» была опубликована заметка о «Дне урожая», который предлагалось отмечать в день церковного праздника Покрова 14 октября. Форма проведения этого советского праздника была похожа на традиционные сельские праздники, посвященные сбору урожая, и оттого он был понятен и близок крестьянам. В задачу праздника входила пропаганда более совершенных методов ведения сельского хозяйства.
В избах-читальнях агрономы устраивали различные лекции и беседы, учили бороться с засухой и саранчой. «У крестьян чувствуется большое стремление к сельскохозяйственному образованию. Как улучшить породы скота и как снять хороший урожай хлеба — все это вызывает неподдельный интерес и заставляет крестьян посещать лекции и доклады агрономов» [8, с. 4].
«В Вознесенске День урожая празднуется в первый раз, но к нему подготовились как надо. Во дворе развивается красный флаг. У крыльца стоят стол и скамьи. На столе красивыми рядами расположены местные культуры: хлебные семена, корнеплоды, десятка полтора по сельскому хозяйству. На праздник явились 40 человек. В час дня праздник открылся пением Интернационала. Затем шли доклады и беседы на темы: как получить хороший урожай, какие семена лучше использовать для посева, когда сеять гречиху, о картофеле и пр.» [11, с. 2]. «В Боханском аймаке в избе -читальне к празднику урожая была подготовлена выставка: одна половина избы была занята выращенными корнеплодами, а другая газетами и книгами по сельскому хозяйству. В ограде размещены экспонаты по животноводству: телки швицкой и голландской породы, коровы, овцы и бараны. После доклада местного агронома о значении праздника и выставки были розданы премии за культурные начинания в сельском хозяйстве» [10, с. 42].
День урожая использовался советской пропагандой для борьбы против всего, что, по мнению руководства страны, было патриархальным пережитком в жизни села. Например, религиозные суеверия, священники, попы, кулаки постоянно являлись мишенями для осмеивания и острой полемики. Поэтому во время праздника урожая активная молодежь устраивала самодеятельные представления с разыгрыванием сцен на злободневные темы сельской жизни: «суд над плохим земледельцем», «обращение к ламам за дождем», «похороны сохи» и пр. Подобные импровизации по замыслу их организаторов, наглядно демонстрировали для крестьян сохранившиеся пережитки и способствовали обновлению сельского быта. Также следует отметить, что этот праздник был призван показать сельскому населению преимущество вступления в колхозы и тем самым ускорить процесс коллективизации в стране.
Самым ярким ноябрьским праздником Советской России был праздник Великой Октябрьской революции. В 1918 г. Совет народных комиссаров постановил считать датой его проведения 7 ноября. В 1927 г. официальными праздничными днями были объявлены — 7 и 8 ноября. Празднование носило масштабный характер. Города и деревни приобретали праздничный вид: дворы и улица начисто выметены, дома украшены еловыми ветками, красными флагами, плакатами, лозунгами, портретами вождей. Утро 7 ноября начиналось с приветственных речей, демонстраций, митингов. Вечером организовывались концерты.
Особый размах приобрело празднование первого десятилетнего юбилея Октябрьской революции, которое было объявлено делом государственной важности. «Колонны с развивающимися знаменами, школьники, пионеры, профсоюзники, синеблузники в шлемах и беретах, декорированный автопаровоз «Октябрь-10» — смешивались в единый живой поток, заполнивший главные улица Верхнеудинска. С трибун доносились приветственные речи, отовсюду звучала музыка, песни, пестрили разноцветные огни и гирлянды» [12, с. 5]. Ноябрьские торжества в честь свершения Октябрьской революции ста- вили целью закрепить в сознании трудящихся масс новые понятия — советская власть, мировая революция и пр.
Одним из важных религиозных зимних праздников являлось Рождество. 24 ноября 1922 г. Центральный комитет РКСМ утвердил документ о «Кампании Комсомольского рождества», в котором отмечалось «Празднество должно использовать основные рождественские обычаи, вкладывая в них коммунистическое содержание» [1, с. 204]. Антирождественская кампания была запущена и прошла во многих городах страны.
В первый день «Комсомольского рождества» или «Коммунистических святок» мероприятия начинались с антирелигиозных речей и чтения докладов, затем устраивались спектакли, «живые картины», инсценировки. На второй день праздника организовывались уличные карнавалы, шествия с сожжением икон, «комсомольские елки» и маскарады. На елке старые хороводные песни заменялись новыми, например, такими: «Жить, как бывало, нельзя нам», «Мы дети фабрики», «Мы Ленина внучата». Участники елочных маскарадов рядились в разнообразные сатирические костюмы: Колчака, Деникина, кулака, нэпмана.
Постепенно население республики стало понимать советские праздники и праздновать их чаще, чем церковные. Так, например, служащими первой Верхнеудинской госмельницы на общем собрании в 1924 г. было решено вместо Пасхи праздновать майские дни [3, с. 4]. А в январе 1925 г. заключенные Центрального дома лишения свободы Верхнеудинска отказались от хлеба, переданного Спасской общиной при местном Троицком соборе в честь празднования Рождества Христова. Однако полного отказа от церковных праздников не произошло. Значительная часть населения еще придерживалась той или иной религии, а, следовательно, и ее обрядовой стороны.
Таким образом, вводимые новые революционные праздники преследовали цель «осоветить» церковные народные праздники и постепенно вытеснить их с орбиты общественной жизни населения. Власти не случайно выбирали дату для их проведения с учетом близости к церковным дням, нужно было отвлечь население от церковных служб новыми зрелищными мероприятиями. Праздничные торжества, проводимые в Бурят-Монгольской АССР в 1920 г., не выходили за рамки «праздничного образца», которыми являлись праздники, организуемые в Москве. Они так же были направлены на изменение сознания общества в коммунистическом направлении и проводились, исходя из реальных возможностей региона.
Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки России (проект XII.191.1.1 «Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, современное общество», № АААА-А17-117021310269-9)
Список литературы "Осовечивание" религиозных праздников в 1920-е гг
- Алексеев В. А. «Штурм небес» отменяется? Критические очерки по истории борьбы с религией в СССР. М.: Россия молодая, 1992. 304 с.
- Бурят-Монгольская правда. 1921. № 108. 16 мая.
- Бурят-Монгольская правда. 1924. № 94. 26 апреля.
- Бурят-Монгольская правда. 1924. № 107. 9 марта.
- Бурят-Монгольская правда. 1925. № 84. 3 марта.
- Бурят-Монгольская правда. 1925. № 101. 11 мая.
- Бурят-Монгольская правда. 1925. № 123. 17 июня.
- Бурят-Монгольская правда. 1926. № 108. 15 мая.
- Бурят-Монгольская правда. 1926. № 127. 8 июня.
- Бурят-Монгольская правда. 1926. № 242. 27 октября.
- Бурят-Монгольская правда. 1926. № 244. 29 октября.
- Бурят-Монгольская правда. 1927. № 254. 10 ноября.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5407. Оп. 1.
- Требуховский П. Ф. Свадьба балаганских бурят в прошлом и настоящем // Просвещение Бурятии. 1930. № 1. С. 112–117.