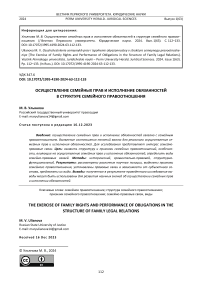Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей в структуре семейного правоотношения
Автор: Ульянова М. В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Частноправовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 1 (63), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: осуществление семейных прав и исполнение обязанностей связано с семейным правоотношением. Выявление соотношения понятий важно для реального осуществления семейных прав и исполнения обязанностей. Для исследования представляют интерес семейно- правовые связи.
Семейное правоотношение, структура семейного правоотношения, признаки семейного правоотношения, семейно-правовые связи, виды
Короткий адрес: https://sciup.org/147243378
IDR: 147243378 | УДК: 347.6 | DOI: 10.17072/1995-4190-2024-63-112-133
Текст научной статьи Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей в структуре семейного правоотношения
Правовому статусу личности, в том числе в се‐ мейных отношениях, в работах уделено значитель‐ ное внимание, в то время как семейно‐правовым связям, рассматриваемым в привязке к конкретным субъектам семейных правоотношений, посвящены немногочисленные исследования. Не менее важ‐ ным является изучение осуществления прав и ис‐ полнения обязанностей в структуре семейного пра‐ воотношения, выделение элементов и правовых связей. В качестве элементов правоотношения в науке выделяют субъекты и объект, которым явля‐ ется достигаемое благо [7; 25; 10]. Исследование семейно‐правовых связей логично начать с анализа субъективного семейного права и субъективной семейной обязанности, для этого необходимо обра‐ титься к предлагаемым в науке классификациям правоотношений.
Содержание дискуссий о структуре семейного правоотношения и его видах
Осмысление соотношения субъективного права и обязанности в научных работах, их значения для правоприменения в научных дискуссиях имело ме‐ сто и в XIX в. В рамках семейного права прошлого столетия и начала нынешнего исследованию вопро‐ сов субъективного семейного права посвящены ра‐ боты А. М. Нечаевой, М. В. Антокольской, Н. М. Ер‐ шовой, О. Ю. Ильиной, Е. Г. Комиссаровой и других известных авторов.
В отношении субъективного права и его места относительно иных правовых явлений существует определенная дискуссия, которая отражается как в работах по семейному праву, так и в цивилистиче‐ ских [21]1. Развитие представлений о правовых свя‐ зях, возможно, положительно отразится на измене‐ нии подходов к восприятию семейных прав, их реа‐ лизации. Именно осмысление правовых семейных связей позволит изменить отношения между субъ‐ ектами семейных прав, повысить значимость инсти‐ тута семьи в обществе, создав благоприятную, ком‐ фортную правовую среду2, обеспечив реальное осуществление семейных прав и исполнение обя‐ занностей.
В целях настоящего исследования в части представлений об осуществлении субъективных прав автор придерживается позиции, изложенной в работах3 [25; 7; 14; 32], в которых субъективное пра‐ во относят к центральным правовым явлениям.
Е. А. Суханов, определяя субъективное право как центральное, обращает внимание на необходи‐ мость адекватного теоретического отражения дру‐ гих правовых явлений, прежде всего субъективной обязанности, без которой «немыслимо само поня‐ тие субъективного права, ибо последнее есть сфера власти одного лица, которую обязаны уважать все остальные лица» [14, с. 9]. Автор отмечает, что «са‐ мо же субъективное право, как мера дозволенного субъекту поведения, традиционно рассматривается как совокупность некоторых элементарных право‐ мочий (юридически обеспеченных возможностей): на собственные действия и на требования известно‐ го поведения от обязанных лиц, а также на исполь‐ зование различных мер защиты своих прав и охра‐ няемых законом интересов» [14, с. 9].
Традиционное деление правоотношений на абсолютные и относительные переносят и на субъ‐ ективные права. Абсолютные правоотношения пре‐ доставляют «управомоченным лицам возможность собственными действиями использовать различные объекты своего господства (материальные и немате‐ риальные блага)». Относительные правоотношения предполагают «возможности требования опреде‐ ленного поведения от конкретных обязанных лиц».
«Такое деление субъективных прав не мешает по‐ явлению смешанных форм» [14, с. 10], что пред‐ ставляет интерес для осмысления их функциониро‐ вания в сфере семейно‐правового регулирования.
Исследователи личных неимущественных прав в теории права и в гражданском праве1 отмечают, что они, являясь абсолютными, обращены к неоп‐ ределенному кругу лиц. Следует согласиться, что такой подход верен при широком рассмотрении. При детальном же учете отраслевых особенностей правоотношений обратим внимание на позицию Е. М. Ворожейкина, поддержанную А. Х. Ульбаше‐ вым [44], о том, что в семейных правоотношениях права носят характер относительных. Как точно вы‐ разился Е. М. Ворожейкин, относительные «с оттен‐ ком абсолютных прав» [4, с. 42]. Более того, автор, описывая личные права супругов, отметил, что они относительные в силу того, что супружеские личные права существуют только в правоотношении. Обо‐ значенный авторами «абсолютный оттенок» семей‐ ных прав логично следует из конструирования нормы как абсолютной (в большей степени характерно для публичной отрасли права), что позволяет говорить о косвенном регулировании данной нормой поведе‐ ния иных субъектов (широкого круга субъектов).
С. С. Алексеев различал активные и пассивные правоотношения, исходя из того, что в первом слу‐ чае управомоченное лицо вправе требовать от обя‐ занных лиц воздержаться от действий, а во втором – совершить определенные действия [1]. Предложен‐ ная им конструкция основывается на том же общем принципе и различении абсолютных и относитель‐ ных прав и, думается, также применима для целей определения структуры и содержания семейного правоотношения. Подробный анализ активных и пассивных родительских прав представлен в работе М. С. Кокориной [20].
Другую систематизацию предлагает Е. В. Вави‐ лин: основываясь на корреспондирующем харак‐ тере прав и обязанностей, ученый отмечает «по‐ лярную взаимосвязь прав и обязанностей», «взаи‐ мопроникновение», некоторое «совмещение» прав и обязанностей, то есть, по сути, их тождество [7, с. 58–60]. По мнению автора, недостатком де‐ ления прав на относительные и абсолютные, пас‐ сивные и активные является то, что отношения, называемые «совпадением прав», в них не учтены. Эту ситуацию автор определяет как совмещение, тождество субъективного права и обязанности, таким образом делая важный вывод для граждан‐ ского права, при этом обращает внимание, что ука‐ занные типы связей имеют несомненное научное и практическое значение, однако не охватывают все‐ го разнообразия конкретных видов отраслевых правоотношений [7, с. 25].
Для целей семейного права, где имеется осо‐ бенность правовых связей, основанная на специфи‐ ке субъектного состава [17, с. 117–131], важно вы‐ явить структуру правовых связей, определяющую осуществление семейных прав и исполнение обя‐ занностей. Родители «имеют право и обязаны» (ст. 63 СК РФ2), поэтому в детско‐родительском пра‐ воотношении важно исследовать структуру право‐ вых связей, порядок осуществления прав и испол‐ нения обязанностей. В супружеских правоотноше‐ ниях, казалось бы, имеет место иная особенность и превалирование иных правовых связей, закрепле‐ ние не только прав и обязанностей, но и свобод. Соответственно, важно сделать ряд обобщающих выводов, которые представят попытку развить док‐ тринальные представления об осуществлении се‐ мейных прав и исполнении обязанностей.
В семейном праве виды правоотношений тра‐ диционно подразделяются по субъектному составу: на супружеские (между лицами, состоящими в бра‐ ке) и правоотношения бывших супругов (направ‐ ленные на защиту прав лиц, которые являются субъектами семейных правоотношений, но не чле‐ нами семьи); детско‐родительские (между родите‐ лем и ребенком). Представляется логичным выде‐ лить межродительские правоотношения, связы‐ вающие двух родителей в отношении общего ре‐ бенка (независимо о того, рожден ребенок в браке или нет, являются ли супруги бывшими или нет); правоотношения между иными членами семьи.
Для семейных правоотношений важно выявить отраслевые особенности, что отразится на пред‐ ставлении о динамике семейных правоотношений, на реальности осуществления конкретных семейных прав субъектов.
«Совпадение», «совмещение» прав и обязан‐ ностей отмечали ранее в своих работах цивилисты [8, с. 35; 13, с. 70, 71; 24, с. 1–3]. Авторы выделяют ситуацию, когда соотношение прав и обязанностей выражено не в их полярности, а в содержательном, структурном и субъектном единстве. У субъекта есть возможность и одновременно необходимость дей‐ ствовать конкретным образом. Следует отметить, что имеются как сторонники данной позиции, так и те, у кого она вызывает сомнения [11]. Совпадение прав и обязанностей является характерным отличи‐ ем административной отрасли права [53, с. 132– 136]. Для отрасли семейного права следует отме‐ тить такой отличительный признак, как взаимность прав и обязанностей.
Р. О. Халфина, подробно исследовав правоот‐ ношение, описала его элементы и структуру, обо‐ значила типы связей прав и обязанностей1 [48, с. 242, 246, 252]. Автор детально рассмотрела струк‐ туры правовых связей и указала на сложность, «многослойность», «взаимное переплетение прав и обязанностей в реальной жизни» [48, с. 252]. Полу‐ ченные исследователем выводы интересны для применения в семейном праве и, несомненно, имеют практическую значимость.
При рассмотрении осуществления семейных прав и исполнения обязанностей на основании структуры сложившихся правовых связей видно, что право требования возникает к одному лицу, а ис‐ полнение происходит другому, в некоторых право‐ отношениях к разным лицам (при множественности на одной из сторон).
Дискуссионным является вопрос о том, что первично – право (субъективное право) или обязан‐ ность и ее исполнение2 [48, с. 247; 43, с. 18–59]. В. Ф. Яковлев отмечает, что «обязанность существу‐ ет лишь постольку, поскольку существует право» [52, с. 370]. Л. А. Чеговадзе дополняет данное ут‐ верждение, отмечая, что это бесспорно в абсолют‐ ных правоотношениях, где обязанное лицо никак не участвует в процессе приобретения субъективного права, «обязывается уже тем только, что оно ему не принадлежит» [50]. В относительных правоотноше‐ ниях субъективное право, по мнению автора, «су‐ ществует лишь потому, что контрагент возлагает на себя долг и обязанности действовать в целях его сложения» [50, с. 408]. Е. В. Вавилин пишет, что увя‐ зывать возникновение субъективного права или обязанности с относительным или абсолютным ха‐ рактером правоотношения как первоочередной особенностью не имеет смысла, и обосновывает значимость изучения первичности права или обя‐ занности в правоотношении.
Понимание связи прав и обязанностей ослож‐ нено в семейных правоотношениях. В детско‐ родительских отношениях закреплены семейные права субъектов, при неочевидном корреспондиро‐ вании обязанности. К примеру, родитель своими действиями способствует внесению записи в книгу актов гражданского состояния и государственной регистрации рождения ребенка, право на имя имеет ребенок, а право на выбор имени принадлежит ро‐ дителям, дается оно по соглашению родителей, происходит это одномоментно, то есть структура правоотношения, основание возникновение прав и обязанностей и направленность движения иные.
В тот же момент родитель приобретает как права, так и обязанности. И даже более того, родитель по‐ нуждается к своевременной регистрации ребенка мерами административного характера3. Понимание первичности права и обязанности влияет на разви‐ тие семейного правоотношения (на динамику).
По мнению Д. М. Генкина, соотношение между правами и обязанностями может осуществляться в различных формах: права и обязанности сочетают‐ ся, праву одного лица соответствуют обязанности другого лица и каждая из сторон правоотношения обладает правом по отношению к другой и одно‐ временно несет перед ней обязанность. Также ука‐ занное соотношение возможно «в виде совпадения права с обязанностью, когда осуществление права является вместе с тем осуществлением обязанно‐ сти» [8, с. 28–29]4. На такие случаи указывал Л. Эн‐ некцерус: «Некоторые права имеют лишь одну цель – сделать возможным осуществление обязанностей того же содержания; таким образом, содержание и объем этих прав могут быть установлены по край‐ ней мере в основном, исходя из содержания тех обязанностей, осуществлению которых право долж‐ но способствовать. Сюда относится право и обязан‐ ность опекуна заботиться о личности опекаемого и его имуществе» [51, с. 200].
Исследование взаимосвязи субъективных прав и обязанностей в отдельных видах семейных право‐ отношений проводилось в рамках научных квали‐ фикационных работ [20; 47; 22]. В силу особенно‐ стей семейных правоотношений родители обладают не только правами, но и обязанностями: например, обладая правом выбрать образовательную органи‐ зацию и осуществляя это правомочие, родители обязаны обратиться в представительный орган об‐ разовательного учреждения и оформить в интере‐ сах ребенка договорные отношения. Право не про‐ тивопоставляется обязанности, а лишь до опреде‐ ленной степени сливается с ней. На первый взгляд, кажется, что осуществление права является выпол‐ нением обязанности.
Родитель, выполняя обязанность, реализует принадлежащее ему правомочие, адресованное к иным лицам. Однако динамика этого семейного правоотношения не совпадает с административным правоотношением или каким‐либо иным, так как ребенок не наделен обязанностями и право требо‐ вания родителя адресовано не к нему.
Согласно позиции С. С. Алексеева, право в объ‐ ективном смысле (совокупность норм) оказывает регулирующее воздействие на поведение субъек‐ тов, участников отношений. В результате имеет ме‐ сто трехзвенная система «механизма правового ре‐ гулирования», предложенная С. С. Алексеевым: так, первым уровнем является норма семейного права, вторым – юридический факт, третьим – осуществле‐ ние субъективного семейного права, при этом пра‐ воотношение представляется «сложным», много‐ уровневым [1].
В. В. Кулаков, исследуя гражданско‐правовые обязательства и обязательственные правоотноше‐ ния, выделяет сложные обязательства по единым критериям, на основании множественности отдель‐ ных элементов. Автор обоснованно полагает, что сложным обязательство становится не от сложения суммы простых обязательств, а в зависимости от того, множественны или нет их элементы. «Простым обязательством (эталоном) ˂…˃ является включаю‐ щее в себя два объекта, выступающие относительно друг друга как встречное предоставление» [25, с. 11]. В семейных правоотношениях практически не встречается таких, где в одном периоде времени имеют место два объекта, имеющие характер встречных представлений. Законодатель употребля‐ ет термин «обязательство» применительно к взы‐ сканию алиментов, однако сложно найти сходство его содержания с гражданско‐правовым. Если субъ‐ ект исполняет алиментную обязанность, то в отно‐ шении указанного лица в данном периоде встреч‐ ное представление невозможно, это противоречит существу самих отношений. Так, если один супруг взыскивает при определенных условиях алименты с другого, то встречное исполнение в этом периоде невозможно представить; надлежащее исполнение родительских обязанностей, если родитель не ли‐ шен своих прав (абз. 2 п. 5 ст. 87 СК РФ), является основанием впоследствии взыскать нетрудоспособ‐ ным нуждающимся в помощи родителям с трудо‐ способных совершеннолетних детей алименты. Если рассматривать взыскиваемые алименты как встреч‐ ное представление, то имеет место разрыв (иногда значительный) во времени, а возможно, представ‐ ление никогда не будет представлено и/или взы‐ скано. Именно разрыв во времени указывает на на‐ личие сохраняющейся правовой связи, находящейся в статическом состоянии, но при волеизъявлении субъекта происходит развитие семейного правоот‐ ношения (движение).
Логично говорить о существовании «порядка» осуществления, структуры семейных прав и обязан‐ ностей, отличных от цивилистических. Осуществле‐ ние субъективных семейных прав и исполнение обязанностей характеризуется определенной спе‐ цификой: семейное правоотношение обладает сложной структурой, обусловленной отраслевыми особенностями, порядок осуществления имеет ди‐ намический характер.
Для выделения структуры и ее особенностей в конкретных видах семейных правоотношений ло‐ гично рассмотреть правовые связи в зависимости от их субъектного состава.
Структура супружеского правоотношения
Исследуя осуществление супружеских прав и обязанностей, необходимо обратить внимание на виды правовых связей.
Супруги не всегда являются родителями, по‐ этому их права и обязанности как родителей будут рассмотрены позже. Законодатель в разделе III Се‐ мейного кодекса закрепил права и обязанности супругов, подразделив их на личные и имуществен‐ ные. В статье 31 СК РФ закреплены как права и обя‐ занности, так и свободы супругов.
В теории права выделяют формы реализации права (соблюдение, исполнение, использование, применение). Право выступает «мерилом, <…> ука‐ зателем границ должного и возможного. <…> гаран‐ тией осуществления этой свободы, средством ее охраны и защиты» [28, с. 197]. Пункт 3 статьи 17 Конституции РФ провозглашает: осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации (п. 3 ст. 19). Кон‐ ституционные права и свободы нашли закрепление в нормах Семейного кодекса РФ.
«Свобода есть необходимое содержание лю‐ бого права, а равенство – его форма. Отнимите сво‐ боду, и право становится своею противоположно‐ стью, то есть насилием» (В. С. Соловьев) [28, с. 197].
В пункте 1 статьи 31 СК РФ закреплены свободы супругов – «в выборе рода занятий, профессии, мес‐ та пребывания и жительства». Казалось бы, это аб‐ солютное правоотношение, в нем свободе лица противостоит обязанность не чинить препятствий, то есть воздержаться от совершения неправомерных действий, которая обращена к неопределенному кругу лиц. Лица состоят в браке, поэтому правоот‐ ношение является относительным, требование об‐ ращено и ко второму супругу. Формой реализации является пассивная форма поведения субъектов – не препятствовать другому.
В пункте 2 статьи 31 СК РФ указано, что супруги равны в своих правах при решении семейных во‐ просов, важен процесс принятия совместного реше‐ ния и формирования совместной воли, в отношении которой по общему правилу действует презумпция.
Пункт 3 статьи 31 СК РФ закрепляет обязанно‐ сти, которые некоторые авторы [2, с. 183] относят к декларативным. Однако полагаем, что эти обязан‐ ности имеют содержание и проявляются в отдель‐ ных институтах семейного права, обладают взаим‐ ностью. Каждый вправе требовать того, что обязан делать сам, но то, что он вправе требовать, не явля‐ ется встречным представлением и не является сов‐ падением в одном лице должника и кредитора в гражданско‐правовом понимании (ст. 413 ГК РФ, в результате гражданско‐правовое обязательство прекращается). Субъект семейных правоотношений вправе требовать и в том случае, когда не будет иметь место взаимность (например, предоставле‐ ние алиментов по основаниям ст. 89 или 90 СК РФ). Более того, если алименты будут взысканы в связи с нетрудоспособностью нуждающегося супруга, то тот, с кого они взысканы, вряд ли когда‐либо будет иметь возможность предъявить подобное требова‐ ние к супругу, бывшему супругу. В пункте 1 статьи 1 СК РФ закреплена взаимность в ее широком смысле – как основа построения отрасли – взаимное уваже‐ ние, взаимопомощь, ответственность перед семьей всех ее членов.
Таким образом, при отсутствии встречного представления наблюдается характерная для осу‐ ществления семейных прав и обязанностей взаим‐ ность, супруги обладают равными правами и требо‐ ваниями друг к другу в отношении тождественного объекта [45, с. 143–153].
Согласно пункту 3 статьи 31 СК РФ супруги обя‐ заны содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии де‐ тей, эта обязанность также является равной и вза‐ имной. Более того, в норме в супружеское правоот‐ ношение включен еще один субъект – ребенок, за‐ щита интереса которого является равной обязанно‐ стью каждого из супругов по отношению к другому. Важно отметить, что в супружеском правоотноше‐ нии обязанностью по отношению к другому являет‐ ся забота об интересах совместного ребенка.
В статье 32 СК РФ закреплено право каждого супруга, его правовой статус; обязанность не пре‐ пятствовать в реализации его права обращена не только к неопределенному кругу лиц, но и к друго‐ му супругу, который также не вправе препятствовать в выборе фамилии.
Имущественные права закреплены как право‐ вой статус субъекта, вместе с тем субъекты правоот‐ ношения вполне определенные – супруги. Объек‐ том правоотношения выступает принадлежность имущества, а также воздействие оказывается на поведение сторон.
Логично сделать вывод, что семейные права и обязанности супругов имеют особенность осуществ‐ ления. Сформулированные и закрепленные в законе как свободы, права и обязанности, осуществляются в относительном правоотношении; имеют характер взаимного корреспондирования, субъектный состав представляется в некоторых правоотношениях сложным.
Далее, основанием возникновения супруже‐ ских прав и обязанностей является регистрация бра‐ ка, в установленном законом порядке на основании взаимного добровольного волеизъявления. Так, среди юридических фактов выделяют факты‐состоя‐ ния. Поэтому, состояние в браке ряд авторов отно‐ сит к юридическому факту [23, с. 203–205] – длящемуся. Полагаем, наличие прав и обязанностей свидетельствует о брачно‐супружеском правоотно‐ шении, имеющем длящийся характер. В течение совместной жизни супруги решают различные стоящие перед семьей задачи, выражают свою вза‐ имную волю, оказывают друг другу взаимопомощь, совместно владеют, пользуются и распоряжаются имуществом. На основании единства субъектного состава говорим о супружеском правоотношении как о сложном, состоящем из ряда простых, сме‐ няющих друг друга правоотношений, в силу чего образуется движение во времени, а также оно про‐ исходит на основании осуществления прав и испол‐ нении обязанностей, достижении фактического ре‐ зультата лицом, при изменении правоотношения
Как верно отмечает О. Ю. Ильина, семейное правоотношение и семейное отношение – не всегда совпадающие понятия [18, с. 7]. Следует отметить, что расторжение брака прекращает супружеское правоотношение, но в ряде случаев оно изменяется и переходит в правоотношение бывших супругов, в связи с тем что законодатель предусмотрел меха‐ низм защиты прав и таких субъектов.
Таким образом, осуществление супружеских прав и обязанностей обладает признаком взаимно‐ сти, имеет длящийся характер, движение которого обеспечивается волей его субъектов, как правоот‐ ношение оно является сложным.
Структура детско‐родительского правоотношения
Структура детско‐родительского правоотноше‐ ния имеет ряд отличий, устанавливаемых на основе структурно‐функционального анализа. Субъектами являются ребенок и родитель, в правовом регули‐ ровании закреплены права ребенка (гл. 11) и права и обязанности родителей (гл. 12 Семейного кодекса РФ), сформулированные как права личного статуса. Важно рассмотреть структуру правоотношения и его динамику.
Конструирование норм главы 11 Семейного кодекса РФ наводит на мысль, что право ребенка абсолютное, то есть обязанным является неопреде‐ ленный круг лиц, который в ряде правоотношении обязывается к нечинению препятствий (бездейст‐ вию). В силу возраста и возможностей ребенка его права обеспечиваются активными действием обя‐ занного лица. При нормальном течении жизни ре‐ бенка такими лицами являются родители ребенка, при изменении правоотношения – лица, заменяю‐ щие родителей: опекуны, приемные родители, усы‐ новители. Таким образом, правоотношение относи‐ тельное. В соответствии с принципом семейного воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей, выявляют и передают «в семью на вос‐ питание» органы опеки и попечительства, тем са‐ мым происходит замена субъекта в правоотноше‐ нии по воспитанию.
Однако права ребенка не могут быть осуществ‐ лены без необходимых условий, мер, принимаемых со стороны государства, его уполномоченных орга‐ нов (например, о преимущественном праве на обу‐ чение в образовательной организации, в которой обучается его полнородный или неполнородные брат и(или) сестра – абз. 2 п. 2 ст. 54, ст. 56 СК РФ) при соблюдении принципа недопустимости произ‐ вольного вмешательства в дела семьи, не только в отношении детей при их устройстве в семью как способе защиты их прав и интересов, но и как по‐ мощь семье в других вопросах жизни с учетом со‐ циально‐экономических, политических мер
Права ребенка, как и других субъектов, можно подразделить на имущественные и личные неиму‐ щественные. Логично было бы говорить, что у ре‐ бенка есть только имущественные права, которые, восполняя его дееспособность, реализует законный представитель. Осуществлением имущественных прав ребенка является его участие в граждан‐ ско‐правовых отношениях, а семейным правоотно‐ шением является представление интересов ребенка (не в противоречии с его интересами). Далее в нор‐ мах позитивного права закреплены «право ребенка на имя», «право ребенка выражать свое мнение», «право ребенка на защиту», «право жить и воспиты‐ ваться в семье», «право на заботу своих родителей» и др. личные права (п. 2 ст. 54 СК РФ). Право на имя принадлежит лично ребенку, в то время как роди‐ телю принадлежит право на выбор имени ребенку (п. 2 ст. 58 СК РФ); право на имя ребенка, находится в определенной взаимосвязи с правом родителей на выбор имени, право на образование (абз. 3 п. 2 ст. 54 СК РФ) и право родителя на выбор образова‐ тельной организации и формы получения образова‐ ния с учетом мнения ребенка (абз. 2 п. 2 ст. 63 СК РФ). Во взаимосвязи с правом родителя законода‐ телем закреплено право ребенка на выражение своего мнение и его учет. Поэтому условно можно выделить права ребенка, где осуществление обес‐ печивается действиями родителя, и права, которые неотделимы от личности и их осуществление требу‐ ет свершение действий и от ребенка (например, право выражать свое мнение – ст. 57 СК РФ).
Следует отметить, что осуществить свое право ребенок может при надлежащем исполнении роди‐ телем, в том числе его требованием к другим ли‐ цам. Осуществление семейного права ребенка (в силу малолетнего возраста) на общение с другими родственниками и с отдельно проживающим роди‐ телем можно обеспечить только действиями роди‐ теля, проживающего с ребенком.
Права ребенка обеспечиваются государством и полномочными органами: например, право на уст‐ ройство в семью, право знать своих родителей, на‐ сколько это возможно, право ребенка на общение с обоими родителями, в том числе при нахождении ребенка в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в меди‐ цинской организации и т.д.) (п. 2 ст. 55 СК РФ)1. По‐ мимо закрепленных прав родителей, действий са‐ мих родителей, необходимы организационные дей‐ ствия со стороны государства для обеспечения воз‐ можности такого общения. В отношении детей ос‐ тавшихся без попечения родителей, право ребенка жить и воспитываться в семье, и др. может быть реализовано только при деятельности уполномо‐ ченных органов (абз. 3 п. 1 ст. 121СК РФ), которая направлена на выявление и устройство таких детей.
Структура детско‐родительского правоотноше‐ ния осложнена иной направленностью прав – право требования родителя к иным лицам (широкому кру‐ гу лиц), соответственно, исполнение происходит в силу фактических действий не только родителя, но и других лиц, правоотношения с которыми регулиру‐ ются в иной отраслевой принадлежности.
Далее, усложняется детско‐родительское пра‐ воотношении наличием двух родителей, один из них может проживать отдельно. Согласно пункту 1 статьи 55 Семейного кодекса ребенок имеет право на общение с обоими родителями, без детализации их проживания. При раздельном проживании роди‐ тель, проживающий с ребенком, обеспечивает осу‐ ществление семейных прав ребенка в отношениях с отдельно проживающим родителем в форме нечи‐ нения препятствий (бездействия) и в форме содей‐ ствия (активных действий). Поэтому в структуре правоотношения появляются взаимные корреспон‐ дирующие межродительские права и обязанности в интересах ребенка (например, п. 3 ст. 31, абз. 1 п. 1 ст. 66 СК, когда один родитель исполняет обязан‐ ность другому родителю, что позволяет осуществ‐ лять как семейные права родителя, так и обеспечи‐ вать осуществление семейных прав ребенка). В ре‐ зультате семейное правоотношение представляется сложным, право ребенка корреспондируется роди‐ телю, как право требования от иного лица, в том числе в некоторых правоотношениях от другого ро‐ дителя (например, взыскание алиментов). Приме‐ ром сказанному может служить дело, рассмотрен‐ ное Верховным Судом РФ, где смена жительства родителя, проживающего с ребенком, привела к невозможности исполнения судебного решения об определении порядка общения и повлекла неис‐ полнение родителем, проживающим отдельно, обязанности по воспитанию и общению1.
Право ребенка на совместное проживание с родителями осуществляется при невмешательстве, в том числе уполномоченных государственных ор‐ ганов, до появления информации о нарушении прав и законных интересов ребенка при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями их обязанности.
Подобная ситуация наблюдается и в правоот‐ ношении с бабушкой и дедушкой, братьями, сест‐ рами и другими родственниками, которые имеют право на общение с ребенком (ст. 67 СК РФ). Право ребенка на общение с родственниками закреплено в статье 55 СК РФ. Однако осуществление этого пра‐ ва в силу возраста ребенка, его способностей может быть обеспечено действиями родителя (родителей), с которыми ребенок проживает, само по себе «не‐ чинение препятствий» может не отражать реальной ситуации, могут потребоваться активные действия со стороны родителя.
Следует отграничить детско‐родительское пра‐ воотношение с действиями в интересах ребенка, родителя, проживающего с ребенком, от правоот‐ ношений супругов / бывших супругов, где при осу‐ ществлении супружеских прав затрагиваются инте‐ ресы ребенка (например, в силу расторжения брака и изменения места жительства супругов / бывших супругов), изменяется (определяется) место житель‐ ства ребенка2.
Особенностью правового регулирования се‐ мейных отношений является включение в них на одном уровне с правами и обязанностями законно‐ го интереса. Об этом свидетельствует формулиров‐ ка абзаца 2 пункта 1 статьи 7 СК РФ, где законода‐ тель указал, что «осуществление членами семьи своих прав не должно нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан», то есть в один ряд поставлены как права, так и законные интересы, обладающие разной сте‐ пенью правовой защиты.
Следовательно, у ребенка есть интересы, кото‐ рые исходя из содержания статьи 7 СК РФ законода‐ телем приравнены к правам по уровню их охраны и защиты. Учитывая, что интересам не соответствуют какие‐либо обязанности, корреспондирующие им, возникает ситуация правовой неопределенности родителей в отношении к детям, не ясно, каким об‐ разом следует родителю выстраивать свое поведе‐ ние по отношению к ребенку. Известны в истории периоды, когда жизнь ребенка ничего не значила, когда ребенок был приравнен к вещи (продажа де‐ тей), в воспитании детей применялось телесное на‐ казание (например, розгами) и т. д. В ситуации вос‐ приятия ребенка как субъекта отношений, с позиции гуманистического подхода, подобное недопустимо. Соответственно ребенок наделен правами, его ин‐ тересы, охраняемые законом (ст. 7 СК РФ), возведе‐ ны в ранг права. Это позволяет выстроить модель семейных отношений, одобряемую обществом, возведенную государством в ранг общепринятой, создав «рамки допустимого поведения» родителей и других членов семьи. Однако говорить о коррес‐ пондирующих обязанностях родителей не отвечало бы этике отношений. Поэтому в кодексе указаны родительские права, которые равны обязанностям (ч. 1 ст. 63 СК РФ). Подобная юридическая техника изложения модели допустимого поведения соот‐ ветствует этическому балансу в отношениях между детьми и родителями.
Таким образом, правоотношение представля‐ ется как не обладающее признаком взаимности в силу того, что праву одного лица соответствует пра‐ вомочие требовать от другого лица, исполнение может выходить за пределы отрасли и иметь поли‐ отраслевой характер, что также свидетельствует о сложном характере семейного правоотношения.
Разделяемые в науке и законодателем для це‐ лей структурирования и систематизации семейные отношения на личные имущественные и неимущест‐ венные тесно взаимосвязаны. Так, В. А. Рясенцев и другие авторы обращают внимание на приоритет‐ ность существа регулируемых отношений: одни авто‐ ры полагают, что важны как личные неимуществен‐ ные, так и имущественные отношения [39], другие говорят о приоритетности для семьи неимуществен‐ ных отношений [9]. Эту взаимосвязь можно просле‐ дить, рассматривая линейно потребность, законный интерес и субъективное семейное право. В семейных правоотношениях объектом выступают приобретае‐ мые блага, которыми являются удовлетворение эмо‐ циональных и физических потребностей членов се‐ мьи, в виде продолжения рода, любви проявляемой и получаемой, заботы как эмоционального компо‐ нента внимания к другому человеку, так для удовле‐ творения жизненно важных потребностей (напри‐ мер, для грудного ребенка или нуждающегося в ухо‐ де члена семьи), а также действия, являющиеся фак‐ тическими, либо достижение фактического резуль‐ тата [45, c. 143–153]. Например, «дети маугли»3,
URL:
дети с диагнозом задержки психического развития. Печальные примеры развития детей имеют место и освещаются в средствах массовой информации. При этом следует отметить, что сами по себе денежные средства ребенку не принесут результата, необхо‐ димо участие родителей в обеспечении1 получения ребенком блага. Обязанность по содержанию явля‐ ется взаимосвязанной с правом на воспитание. Удовлетворение ряда потребностей требует нали‐ чия материальных ресурсов, поэтому потребности могут быть не только личного характера, но и нуж‐ дающиеся в материальном обеспечении (например, ребенка надо накормить, одеть, в ряде случаев для развития способностей и оплатить обучение; отдых супругов, и особенно комфортабельный, влияющий на сохранение семьи, также в большинстве случаев требует материальных вложений), и тогда значимо имущество, принадлежащее членам семьи и дохо‐ ды, получаемые супругами. Полагаю, материальные блага и составляющие их имущественные отноше‐ ния семьи, это не первостепенные блага ради и для приобретения которых создаются браки, рождаются дети, это та необходимая ресурсная база, которая позволяет семье выполнять свои функции (рожде‐ ния, воспитания, рекреации, материального обес‐ печения).
Поэтому удовлетворение нематериальной по‐ требности лица может переходить в интерес, закон‐ ный интерес и право имущественного характера (потребность в пище и жилище), приобретает иму‐ щественных характер в виде права на взыскание алиментов, которое осуществляется не самим ре‐ бенком или нетрудоспособным и нуждающимся членом семьи, а обеспечивается осуществлением одним родителем к другому, соответствующим ор‐ ганом в интересах ребенка.
Родительские праваи структура правовых связей
Взаимосвязанным в детско‐родительском пра‐ воотношении с правами ребенка является понятие «родительские права», употребляемое самостоя‐ тельно. Родительские права (совпадающие с обя‐ занностями), являясь составным элементом в дет‐ ско‐родительском правоотношении, представляют‐ ся относительными, однако сформулированы как абсолютные (например, согласно п. 1 ст. 61 СК РФ, абз.2 п.1 ст. 63 родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей) либо абсолют‐ ные с относительным характером (согласно абз. 3
п. 1 ст. 83 СК РФ – преимущественное право на обу‐ чение и воспитание своих детей перед всеми дру‐ гими лицами), что приводит к отдельным пробле‐ мам осуществления как родительских прав, так и прав иных членов семьи, оставляет неопределен‐ ность в статусе ребенка как субъекта, в отношении которого родитель осуществляет свое семейное право. Полагаем, законодатель закрепляет ряд прав, которые имеют характер относительных, на‐ правлены на обеспечение прав и интересов ребен‐ ка, предоставляя родителю возможность осущест‐ вить свои права и исполнить родительские обязан‐ ности.
Исследуя литературу по данной проблематике, можно обратить внимание, что авторы анализируют термины «родительские права» и «родительское право на воспитание» в их взаимосвязи. «Родитель‐ ские права» – понятие более широкое, чем право по воспитанию, в котором также можно выделить со‐ ставляющие.
Ряд авторов, например, А. М. Нечаева, Е. А. Фо‐ мина, полагают, что понятие «родительские права» собирательное. Так, А. М. Нечаева отмечала, что «употребление понятия “родительские права”» объясняется тем, что обычно имеют в виду обоих родителей [29, с. 38]. Эту же мысль развивает в ра‐ боте Е. А. Фомина [47, с. 18], отмечая, что родитель‐ ским правам как правовой категории в послерево‐ люционный советский период уделено больше внимание, чем правам ребенка. Такое мнение автор обосновывает правовым регулированием; напри‐ мер, в статье 153 Кодекса законов об актах граждан‐ ского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве закреплено: «родительские права осуществ‐ ляются...», глава Кодекса о браке и семье РСФСР 1927 года именуется «Права и обязанности родите‐ лей по воспитанию своих детей». Законодатель употреблял понятие не «родительское право», а «родительские права», закрепляя равенство роди‐ тельских прав обоих родителей, регламентируя ли‐ шение родительских прав, восстановление в роди‐ тельских правах и пр. В статье 54 СК РФ указано: «родители пользуются равными правами и несут равные обязанности в отношении своих детей».
Таким образом, одно из проявлений собира‐ тельности понятия – это равенство прав родителей, их равенство как женщины и мужчины. Для право‐ вого регулирования послереволюционного периода ориентация на равенство прав мужчин и женщин как родителей явилось важным этапом и «револю‐ ционным» достижением, а в нормативном регули‐ ровании это равенство отражено в «собиратель‐ ном» понятии – «родительские права».
В Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 года со‐ ответствующая глава поименована «Права и обя‐ занности родителей по воспитанию детей». Роди‐ тельские права по тексту также употребляются во множественном числе (ст. 58, 59, 61, 62, 64). Дейст‐ вующий Семейный кодекс РФ так же повторяет мысль о существовании родительских прав во мно‐ жественном числе, в частности статьи 61, 63, 64, 65, 69–71, 73, 74, 75, 76.
Более того, в пункте 1 статьи 62 СК РФ законо‐ датель раскрывает содержание родительских прав в отношении несовершеннолетних родителей, вклю‐ чая в них права на следующие действия: совместное проживание с ребенком, участие в воспитании. Спе‐ циальная норма предусматривает статус родителя, проживающего отдельно от ребенка в пункте 1 ста‐ тьи 66 СК. Он имеет право: на общение с ребенком; участие в его воспитании; решение вопросов, свя‐ занных с получением ребенком образования. Пере‐ численные права сформулированы как конструкция абсолютного права. Однако они являются как абсо‐ лютными, так и относительными. Никто не может препятствовать родителю проживать совместно с ребенком, но и препятствовать не могут и родители несовершеннолетнего родителя, то есть норма об‐ ращена и к другим членам семьи.
В пункте 4 статьи 66 СК РФ далее закреплено право родителя на получение информации о своем ребенке. Право обращено к неопределенному кругу лиц, но когда оно становится субъективным в пра‐ воотношении, то адресовано уполномоченному представителю соответствующего учреждения, ко‐ торое взаимодействует с ребенком и имеет инфор‐ мацию о нем (например, образовательная, меди‐ цинская организация и т.д.).
Можно говорить о закрепленном в законе рав‐ ном характере родительских прав для обоих роди‐ телей и аккумуляции в понятии «родительские пра‐ ва» отдельных составляющих.
Широкая дискуссия о сущности и содержании родительских прав может быть положена в основу и требует некоторого структурирования.
Сущностью, целью родительских прав, как от‐ мечала А. И. Пергамент, является «осуществление родительского права в интересах детей» [36, с. 62]. Р. З. Лившиц под сущностью родительских прав подразумевал их активное осуществление путем выполнения соответствующих обязанностей [26, с. 30]. Подобная позиция высказана известными ци‐ вилистами [8]. Несколько иного мнения придержи‐ вается Е. А. Фомина, полагая, что предоставление родителю родительских прав «есть социальное бла‐ го, социальное достижение, включающее в себя всю гамму особенностей общественных отношений на‐ шего времени» [47, с. 10–11]. «Осуществляя это право (родительское право), родитель одновремен‐ но использует значительное как для него, так и для общества социальное благо, что позволяет удовле‐ творить истинно человеческие потребности в духов‐ ном общении с несовершеннолетним, контакте и близости с ним, отчего обогащается, становится пол‐ нокровнее и личная жизни гражданина как родите‐ ля» [29, с. 38]. Глава 12 СК РФ сформулирована как охранительные отношение, предусматривает меры защиты на случай нарушения родительских прав.
По мнению А. М. Нечаевой, суть права родите‐ лей на воспитание своего ребенка заключается в предоставлении ему (т. е. родителю) возможности лично формировать нужные и полезные качества несовершеннолетнего [30, с. 7].
Таким образом, в целом исследователи рассу‐ ждают о способах осуществления родительских прав, о совпадении права и обязанности, в то же время А. М. Нечаева писала о мотивации поведения родителя при осуществлении прав и исполнении обязанности, что для семейных отношений значимо, так как понудить заботиться, при отсутствии воли (желания), невозможно.
Не случайно «потребность» в детях – прожива‐ ние процесса их рождения, взросления, этапы забо‐ ты занимает в шкале представлений об истинно личных человеческих ценностях заметное место. В то же время и «общество напрямую заинтересовано в активном использовании родителями своего пра‐ ва в соответствии с его назначении1. А оно в свою очередь сводится и к обеспечению жизненно важ‐ ных интересов детей» [29, с. 38]. Следовательно, осуществление прав родителей имеет целью удов‐ летворение как частных личных родительских по‐ требностей, ребенка, так и общественных.
М. В. Антокольская, описывая детско‐родитель‐ ское правоотношение, выделяет «специфические черты осуществления родительских прав» [2, с. 266– 267]: 1) их срочный характер, так как права принад‐ лежат родителям только до совершеннолетия детей (автор развивает и поддерживает позицию В. А. Ря‐ сенцева); 2) «в этих правоотношениях сочетаются интересы родителей и детей» [42, с. 154]. «Дети пользуются преимущественной защитой закона. Ро‐ дительские права и обязанности должны осуществ‐ ляться в соответствии с их интересами» [2, с. 266]. Принципом международного и внутреннего семей‐ ного законодательства является приоритет интересов ребенка. Однако родители имеют право на защиту своих интересов, что указано как в нормах Семейного кодекса, так и в Конвенции о правах ребенка.
По мнению М. В. Антокольской, «только в слу‐ чае, когда противоречие между ними настолько серьезно, что поиски компромисса оказываются безрезультатными, предпочтение отдается интере‐ сам ребенка. Особенностью родительских правоот‐ ношений является и более ощутимое присутствие в них публично‐правового начала» [2, с. 266–267]. Дети в силу возраста не в состоянии сами защитить свои права, в том числе и в отношениях со своими родителями. Поэтому в тех случаях, когда их права нарушаются, «государство в лице органов опеки и попечительства обязано по собственной инициативе вмешиваться в родительские правоотношения, при‐ бегая к методам, более свойственным публичному, чем частному праву». Следующая особенность осу‐ ществления родительских прав – «осуществляются одновременно права и обязанности, что также свойственно не частному, а публичному праву», по мнению автора.
Развивая мнение М. В. Антокольской, следует отметить значимость публично‐правового начала не только в детско‐родительском, но и в иных семей‐ ных правоотношениях, где имеет место забота од‐ ного члена семьи о другом в силу его физического или интеллектуального состояния (например, не‐ трудоспособные и нуждающиеся), что отражено как принцип в пункте 3 статьи 1 СК РФ.
Основой родительских прав является воспита‐ ние [38, с. 167]. Воспитать – значит привить, внушить что‐нибудь, обучив правилам поведения, «…путем систематического воздействия, ˂…˃ сформировать чей‐нибудь характер» [31, с. 85], в том числе вырас‐ тить, «дать образование». Из определения процесса воспитания следует, что его неотъемлемой частью является забота о ребенке, о его физическом и пси‐ хическом, духовном, нравственном развитии. Эти составляющие заботы родителей включаются в со‐ держание понятия «родительские права», но не исчерпывают его в полном объеме. Не все совер‐ шаемые родителем действия являются юридически значимыми. Под воспитанием в правовом смысле следует понимать совокупность фактических и юри‐ дически значимых действий, совершаемых родите‐ лем, в меру возможного и допустимого поведения, гарантированного со стороны государства.
Согласно пункту 1 статьи 18 Конвенции о пра‐ вах ребенка родители несут «общую и одинаковую ответственность за воспитание и развитие ребенка», «интересы ребенка являются предметом их основ‐ ной заботы». В качестве субъектов этих отношений указаны «родители или в соответствующих случаях законные опекуны». Нормы Конституции РФ уста‐ навливают: «забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей» (п. 2 ст. 38 Консти‐ туции РФ).
Под заботой понимается «мысль или деятель‐ ность, направленная к благополучию кого‐либо» [31, с. 170]. Законодатель закрепляет право ребенка на заботу своих родителей, за исключением случа‐ ев, когда это противоречит его интересам (п. 2 ст. 54 СК РФ). В Конвенции о правах ребенка в преамбуле указано: «ребенок, ввиду его физической и умст‐ венной незрелости, нуждается в специальной охра‐ не и заботе, включая надлежащую правовую защи‐ ту, как до, так и после рождения». В абзаце 2 пунк‐ та 1 статьи 63 СК РФ закреплено: «родители обязаны заботиться о здоровье, ˂...˃ развитии ребенка». Ис‐ ходя из текста нормы можно сделать вывод, что забота не полностью совпадает по объему с поняти‐ ем «воспитание». Забота включает физическое, пси‐ хическое, духовное и нравственное развитие, то есть воспитание. Логично, что наиболее полным образом осуществить «право на заботу» и обязан‐ ность заботиться, воспитывать возможно при со‐ вместном проживании ребенка с его родителями.
Далее в статьях 61 и 63 СК РФ закреплены рав‐ ные права родителей и равные обязанности, что по‐ зволяет говорить о равенстве прав как при совмест‐ ном с ребенком проживании родителя, так и при раздельном; родители вправе и обязаны воспиты‐ вать, развивать, за что несут ответственность. Довер‐ шает пункт 1 статьи 63 СК РФ закрепленное преиму‐ щественное право родителей на обучение и воспита‐ ние своих детей перед всеми другими лицами.
В российской научной литературе отсутствует единый подход к пониманию термина «ответствен‐ ность». В цивилистической литературе отражается взаимосвязь с такими понятиями, как санкция и за‐ щита, рассматривается как самостоятельное право‐ отношение либо часть правоотношения [40; 49]. В рамках работ по семейному праву превалировал подход, согласно которому ответственность есть основа применения семейно‐правовых мер – огра‐ ничения и лишения родительских прав. Зарубежные авторы под родительской ответственностью пони‐ мают право родителя принимать решения относи‐ тельно своего несовершеннолетнего ребенка, а также заботиться о ребенке и воспитывать его [53].
Таким образом, законодатель закрепил права и обязанности родителей по воспитанию, в отноше‐ нии заботы о развитии детей предусмотрел только обязанность родителей и добавил ответственность. К сожалению, какой‐либо системности в установле‐ нии выделенных прав и обязанностей не прослежи‐ вается.
По мнению А. М. Нечаевой, «право родителей на воспитание включает в себя и действия, которые именуются притязаниями. Мысль о том, что в состав субъективного права входит право требования, что право, выражающее интересы граждан как таковых, представляет собою притязание, обращенное как к административным органам государства, так и лю‐ бому отдельному гражданину, имеет самое прямое отношение к брачно‐семейным личным правам, т. е. праву родителей на воспитание» [29, с. 38]. Да‐ лее автор верно отмечает, что «как бы ни был доб‐ росовестен родитель как воспитатель, при всей его добросовестности, умении обеспечить семейное воспитание, он не достигнет нужной цели, если на пути реализации его права станут возникать различ‐ ные помехи, способные свести на нет всю его дея‐ тельность по воспитанию». Трудно не согласится с ее мнением относительно родительского права: «сущность родительского права заключается в пове‐ дении самого управомоченного лица, а не в его тре‐ бованиях определенного поведения от других лиц» [37, с. 27]. Следует уточнить: только сочетание собст‐ венных действий и поступков с наличием юридиче‐ ски обеспеченной возможности требовать устране‐ ния помех на пути семейного воспитания, будь то антипедагогическая деятельность воспитателя в дет‐ ском учреждении или развращающие несовершен‐ нолетнего факторы идеологического порядка (на‐ пример, доступность для просмотра определенных сайтов в интернете при заходе в электронный журнал школьника), позволит говорить о беспрепятственном осуществлении родительских прав по воспитанию.
Е. Г. Комиссарова, анализируя статью 63 СК РФ, обращает внимание, что законодатель однозначно не указал, перед кем родители имеют приоритет, то есть не определил круг лиц, в том числе других чле‐ нов семьи, к которым можно отнести бабушек, де‐ душек, братьев и сестер и др., по ее мнению, также являющихся участниками воспитательного процес‐ са, но находящихся «в состоянии понятной иерар‐ хичности» относительно родительского воспитания [21, с. 672–697]. Автор выделяет родительское пра‐ во по воспитанию и «ряд производных прав: 1) пра‐ ва родителей, опосредующих осуществление прав детей; 2) право по защите прав и интересов детей».
Логично, что родитель обеспечивает осуществ‐ ление прав ребенка, и в этой связи классификацию можно уточнить и расширить права, закрепляющие возможности родителей, по сути, являющиеся усло‐ виями для обеспечения осуществления прав ребен‐ ка и родительских обязанностей (например, право на совместное проживание со своим ребенком, преимущественное воспитание перед всеми други‐ ми лицами, право получать информацию о своем ребенке).
При неотчуждаемости права на воспитание как личного права, А. М. Нечаева выделяла из роди‐ тельских прав правомочия, то есть предоставляе‐ мые гражданину как родителю возможности (изби‐ рать форму дошкольного воспитания, обучения, применять меры поощрения, наказания, осуществ‐ лять надзор за поведением и т.п.) [29, с. 37].
В составе личных прав, которые принадлежат родителям, Н. М. Ершова выделяет две группы пра‐ вомочий: права и обязанности по воспитанию детей и права и обязанности по защите прав и интересов несовершеннолетних детей в качестве законных представителей во всех учреждениях [15, с. 15].
М. С. Кокорина придерживается позиции, со‐ гласно которой родительские права – это «собира‐ тельное комплексное понятие», разделяет их на ряд правомочий. Отмечая «многообразие», обосновы‐ вает существование «самостоятельных родитель‐ ских правомочий, вытекающих из родительского права как такового», то есть разделяет родитель‐ ские права как собирательное понятие на отдель‐ ные правомочия:
-
1) «личное воспитание своего ребенка. Для осуществления этого права родителям предостав‐ лена возможность совместного проживания со своими детьми, которая одновременно является их обязанностью (ч. 1 ст. 63 СК РФ);
-
2) выбор способов и методов семейного воспи‐ тания; забота о здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие своих детей (ч. 1 ст. 63);
-
3) передача ребенка на воспитание в детское учреждение; выбор образовательного учреждения и формы обучения детей для получения основного общего образования (ч. 2 ст. 63 СК РФ);
-
4) передача на усыновление;
-
5) общение с ребенком (в том числе и в случае раздельного с ним проживания (ч. 1 ст. 66 СК РФ);
-
6) надзор за поведением своих несовершенно‐ летних детей (ст. 64 СК РФ)» [20, с. 75–76].
Среди исследователей единства в восприятии составляющих родительских прав и права на воспи‐ тание не достигнуто, они тесно переплетены между собой. Так, М. В. Антокольская, ссылаясь на отсутст‐ вие определенности в законе и невозможность ре‐ гулировать процесс воспитания, выделяет правомо‐ чия, составляющие право на воспитание: «личное общение, которое связано с совместным прожива‐ нием, правомочие по религиозному воспитанию ребенка; правомочия по выбору формы образова‐ ния и образовательного учреждения для ребенка; право представлять и защищать интересы своих детей; право дачи согласия на усыновление ребенка и некоторые другие права» [2, с. 279–282], что час‐ тично совпадает с правомочиями родительских прав, предложенными М. В. Кокориной.
Разделение родительских прав на отдельные правомочия наводит на мысль о мнимой возможно‐ сти «распоряжения» отдельными правами незави‐ симо друг от друга (их отчуждение и передача дру‐ гому лицу), что в силу личной природы родитель‐ ского права невозможно [29, с. 36, 38].
Позиция автора обоснована в работе, но сле‐ дует отметить: совместное проживание – это усло‐ вие, при котором наиболее полно реализуются как права родителей, так и права детей. В позиции М. С. Кокориной, так же, как и в позиции Е. А. Фо‐ миной, просматривается сильная публичная состав‐ ляющая: авторы определяют то, что, казалось бы, воспринимается как естественным состояние по отношению к ребенку, является благом для родите‐ ля, как «предоставленная возможность» со стороны государства. Для ребенка право на совместное про‐ живание закреплено в законе как право. Для роди‐ телей – это условие, благоприятное для воспитания ребенка, охраняемое законом.
Право на воспитание является неимуществен‐ ным правом, неразрывно связанным с личностью, что само по себе уже не предполагает его отчужде‐ ние и передачу другому лицу, также в силу естест‐ венного характера отношений отказ от воспитания своего ребенка противоестественен. Поэтому право на передачу ребенка на воспитание в детское учре‐ ждение видится дискуссионным. С представления‐ ми о семейном воспитании, основанном и на кон‐ цепции родственного воспитания, находится в про‐ тиворечии (в понимании как правомочия) правомо‐ чие родителя на передачу на усыновление или пе‐ редачу на воспитание в детское учреждение. Эти действия могут являться фактически совершенными, [21, с. 672–697], в силу каких‐либо жизненных об‐ стоятельств, но крайне нецелесообразно рассмат‐ ривать их как право. Помимо того, предусмотренная законом возможность передачи ребенка на воспи‐ тание в детское учреждение носит срочный харак‐ тер, как способ поддержки родителя в трудной жизненной ситуации. Ее следует рассматривать как вынужденную меру, и если пребывание в детском учреждении затянулось на более длительный срок, чем предусмотрено законом, то фактически проис‐ ходит нарушение права ребенка на воспитание в семье. В советский период действительно родитель мог передать ребенка на воспитание в детское уч‐ реждение, что было обусловлено определенным, характерным для того периода, балансом в сочета‐ нии общественного и личного воспитания (где ог‐ ромная роль отводилась общественному воспита‐ нию). В настоящее время приоритеты сдвинулись в сторону семейного воспитания, а влияние и значе‐ ние общественного воспитания остается значимым, но его формы переосмыслены. Ожидание ребенком возврата в родственную семью может затянуться на годы, тем самым его право на семейное воспитание нарушается. Одним из способов разрешения ситуа‐ ции видится учет мнения ребенка, способного осоз‐ нать и сформулировать свое мнение об устройстве его в семью, при неоднократном продлении пребы‐ вания со стороны родителя.
Позиция М.С. Кокориной представляется инте‐ ресной, но дискуссионной относительно наличия у родителя права передачи ребенка на усыновление. Полагаем, это вынужденная мера в отношении ре‐ бенка, и родителю еще раз дается гарантированная законом возможность выразить свое отношение, согласие имеет функцию «преодоления конфликта (согласование воли)» [10, с. 63–64]. После написа‐ ния работы М. С. Кокориной было принято Поста‐ новление Пленума ВС РФ № 44 о защите прав ре‐ бенка и принимаемых мерах (поддерживаем пози‐ цию, согласно которой устройство ребенка в семью есть форма защиты его прав). Согласие родителя имеет целью информировать родителя и, возмож‐ но, изменить ситуацию при его несогласии, весьма спорным видится правомочие родителя на переда‐ чу ребенка на усыновление, поэтому согласие не следует рассматривать как осуществление субъек‐ тивного родительского права.
Следует согласится с позицией А.М. Нечаевой о неотчуждаемости прав родителей [29, с. 40], в силу их личного характера. Сам родитель не может отка‐ заться быть их обладателем. Другой автор выражает сожаление о том, что невозможно отказаться от родительских прав. Ребенок обретет полноценную семью и заботу, ситуация у него изменится только при наличии виновного поведения родителя [27, с. 203]. Так, в советский период О. С. Иоффе, анали‐ зируя родительские права, обращает внимание на право родителя отдать своих несовершеннолетних детей на воспитание [19, с. 239], и такая позиция была основана на законодательстве того периода и общей концепции преобладания общественного воспитания. Немногим позже А. М. Нечаева неотчу‐ ждаемость прав объясняла с учетом следующих обстоятельств: «давший жизнь ребенку связан с ним навсегда, а необходимость воспитывать – до совер‐ шеннолетия. Утрата родительских прав может быть следствием лишь лишения этих прав в судебном порядке».
По мнению Н. М. Ершовой, согласие родителей на усыновление ребенка –это не право родителей отдать ребенка на усыновление, а «для усыновле‐ ния требуется согласие родителей ребенка, не ли‐ шенных родительских прав. Такое согласие родите‐ лей нужно рассматривать лишь как одно из необхо‐ димых условий усыновления». Родителям «принад‐ лежит преимущественное право на личное воспита‐ ние своих детей», что не связано с «правом отда‐ вать ребенка на усыновление» [15, с. 15, 17]. По мнению А. М. Нечаевой, «согласие на усыновление своего ребенка имеет аналогичные последствия (прекращение фактической и правовой связи с не‐ совершеннолетним)», но иную правовую природу. «Такое согласие представляет собой одно из пра‐ вомочий родителя, заключающееся не только в прекращении родительских правоотношений, но и передаче заботы о ребенке другому лицу – усыно‐ вителю. В результате несовершеннолетний не оста‐ ется беззащитным. Скорее, наоборот, вследствие усыновления условия его семейного воспитания улучшаются». Поэтому логично, что согласие явля‐ ется лишь элементом юридического состава, изме‐ няющего детско‐родительское правоотношение и осуществление права на семейное воспитание ре‐ бенка. Автор писала о вреде рассмотрения согласия как права родителей: «сама возможность отказа неблагоприятным образом сказывается на понима‐ нии сущности родительских прав, ведет к дискреди‐ тации чувства ответственности за судьбу своего ре‐ бенка», «не способствует формированию чувства ответственности родителей за качество своего по‐ томства» [29, с. 42], то есть сама идея о возможно‐ сти существования как права разлагает сознание родителей.
Родительское правоотношение не прекращает‐ ся с момента составления заявления об отказе, оно сохраняется, пока не установится усыновление, не произойдет замена конкретного родителя в право‐ отношении. Если же оно не установится, состави‐ тель будет продолжать иметь родительские права и обязанности. Отказ родителя от ребенка в роддоме влечет лишение родительских прав (в результате отказа забрать из лечебного учреждения), но сохра‐ няется обязанность по содержанию. Родительское правоотношение во всех описанных случаях не пре‐ кращается, оно продолжается и при лишении роди‐ тельских прав, сохраняется возможность восстано‐ вить право родителя на воспитание.
Далее, статья 64 СК РФ предусматривает не надзор, а представительство интересов ребенка и их защиту. Действительно, термин «надзор» ис‐ пользуется в гражданско‐правовом регулировании. Однако осуществлять надзор – значит «наблюдать, присматривать за кем‐то и чем‐то с целью провер‐ ки» [31, с. 322]. Поэтому, думается, этот термин не удачен в отношении поведения детей, так как поня‐ тия «надзирать за поведением» и «воспитывать» имеют разное содержание и разнонаправленны. Так, в статье 1073 Гражданского кодекса РФ «над‐ зор» упоминается в контексте помещения ребенка под надзор образовательной организации, но и в данной ситуации употребление термина видится неудачным. Ребенок, оставшийся без попечения родителей, помещается в организацию для детей‐ сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, временно, но с целью заботы/попечения о нем, воспитания, то есть того, чего он лишился или ли‐ шен в настоящее время. Если вести речь о его иму‐ ществе, то оно поступает в управление, и его инте‐ ресы в отношении этого имущества представляют иные лица, в этой ситуации можно применить тер‐ мин «надзор» за исполнителем обязательства по управлению имуществом. Надзор предполагает осознанность поведения лица, за которым его осу‐ ществляют, что сложно сказать о ребенке.
Права и обязанность родителя по воспитанию и образованию и сами действия – несовпадающие понятия. А. М. Нечаева отмечала, что «при всем многообразии разных по существу и назначению субъективных прав особое место принадлежит тем, что служат воспитанию подрастающего поко‐ ления. Благодаря их осуществлению решается проблема формирования полноценной личности будущего гражданина. Выполнение этой задачи составляет главную функцию семьи, предмет осо‐ бого внимания общества» [29, с. 36]. Автор указы‐ вала, что обращает на себя внимание перечень основных отличительных признаков воспитания –
«их неповторимость, сложность, богатство содер‐ жания» [29, с. 42].
Воспитание в семье – «процесс целенаправ‐ ленного формирования личности ребенка под руко‐ водством родителя. Руководствуясь теми же воспита‐ тельными целями, что и общество в целом, ˂...˃ се‐ мья своими, специфическими средствами обеспечи‐ вает всестороннее развитие детей». Определяя се‐ мью как «отношение между мужем и женой, родите‐ лями и детьми» [34, с. 23], ей отводят огромную роль в развитии общества. «Кто из родителей не мечтает вырастить своего ребенка здоровым, крепким, ум‐ ным, передать ему все лучшее, что есть в самих себе, воспитывать достойным гражданином? Заботами о детях, об их физическом и нравственном развитии живет каждая наша семья, видя в этом свое предна‐ значение» [41, с. 19]. «С раннего детства родители заботятся о физическом состоянии ребенка. Соблю‐ дение правил гигиены, закаливания, правильный режим и правильное питание необходимы для того, чтобы ребенок рос здоровым. Чем больше ребенок двигается, тем лучше растет и развивается. ˂...˃ При‐ общение ребенка к труду ˂...˃ Атмосфера жизни в семье, ее социальные установки, взаимоотношения... в полной мере отражаются на формировании харак‐ тера. Искусство воспитания требует настоящего мас‐ терства и постоянного такта, ˂...˃ надо учитывать воз‐ растные особенности детей, строить семейные отно‐ шения на принципах взаимного уважения» [41, с. 20], своим примером родители прививают ребенку на‐ выки заботы о своем потомстве.
По мнению М. В. Антокольской, «воспитание представляет собой длительный процесс воздейст‐ вия на детей. Этот процесс предполагает как совер‐ шение родителями целенаправленных действий, предусматривающих достижение определенного результата, так и бессознательное воздействие на ребенка, которое происходит постоянно в процессе самого общения родителя и ребенка и влияние, которое оказывает на ребенка поведение и пример родителей» [2, с. 278].
При рассмотрении проблем воспитания детей в семье особенно наглядно проявляется связь мо‐ ральных и правовых норм. Н. М. Ершова верно от‐ мечает, что «родители заботятся о детях и воспиты‐ вают их, конечно, не потому что к этому их обязыва‐ ет закон. Здесь мы встречаемся с такими фактора‐ ми, как чувство любви, долга, нравственные обя‐ занности и т.д. На родительскую заботу дети отве‐ чают привязанностью и любовью». «Все это естест‐ венные чувства, порождаемые кровным родством, которое само по себе мощный фактор воспитания» [15, с. 15].
Думается, в настоящее время следует рассмот‐ реть возможность изучения в рамках общественных наук в школе элементов педагогики и психологии. Школьники осваивают основы устройства государств, исторические периоды развития государств, идеи отдельных выдающихся личностей в истории, но за‐ частую не знают, не осознают предпосылки, причи‐ ны, следствия тех или иных действий в семье, не вла‐ деют какими‐либо способами или методами семей‐ ного взаимодействия и воспитания. Те положения нравственного характера, которые были закреплены в Своде законов Российской империи относительно семьи и обязанностей (родители должны «давать детям... доброе и честное» (ст. 172), обращать вни‐ мание на нравственное образование своих детей (ст. 173)), следует доводить до ребенка в период его взросления (период школьного обучения).
В дореволюционный период раздельное про‐ живание родителей [6, с. 32] являлось исключи‐ тельным обстоятельством, не поощрялось в обще‐ стве и все же в отдельных случаях имело место. Следует отметить, что совместное проживание с обоими родителями для ребенка – возможность, обеспечивающая осуществление его прав и интере‐ сов, для родителей – с одной стороны, является вы‐ бором места жительства и пребывания (п. 1 ст. 31 СК РФ), а с другой – наиболее благоприятное, необхо‐ димое условие для полноценного осуществления своих родительских прав и исполнения обязанно‐ стей (п. 3 ст. 31 СК РФ). Однако в жизни отношения родителей могут складываться по‐разному.
Расторжение брака прекращает супружеское правоотношение. Однако при наличии совместных несовершеннолетних детей изменяются правоот‐ ношения каждого родителя с ребенком. Ребенок утрачивает возможность совместного проживания с обоими родителями. Он не субъект супружеского правоотношения, но изменение супружеского пра‐ воотношения косвенно изменяет возможность осу‐ ществления прав ребенка. Интересен опыт Швейца‐ рии, где, согласно закону государства, мнение ре‐ бенка выслушивается во всех брачно‐семейных де‐ лах (ст. 298 ЗПО Гражданского процессуального ко‐ декса Швейцарии)1 [46, с. 31–41]. В результате такой подход формирует потребность родителей инфор‐ мировать ребенка о грядущих изменениях для него, которые произойдут в результате раздельного про‐ живания родителей или расторжения брака. В си‐ туации растущих показателей расторгаемых браков и состояния в течение жизни более чем в одном браке, думается, такая мера позволяет на уровне государства обратить внимание родителей на права и фактическое положение их детей, на их воспри‐ ятие ситуации и влияние на дальнейшее развитие ребенка.
Следует рассмотреть «родительские права» родителей, проживающих отдельно. Статью 66 СК РФ следует рассматривать как особенную, в ней да‐ ется детализация прав родителя, проживающего отдельно, и употреблен термин «участие в воспита‐ нии». Родитель имеет право на получение инфор‐ мации, но не указано право на принятие решения о здоровье ребенка. И тем более важным является представительская функция родителя в отношении ребенка, в частности имущественных интересов. Имеет ли право на представление интересов от‐ дельно проживающий родитель при заключении сделок по распоряжению имуществом ребенка – не указано. Это наводит на мысль как о наличии, так и о возможном отсутствии у родителя, проживающего отдельно от ребенка, таких родительских правомо‐ чий. По общему правилу применяется правило о равенстве родительских прав и обязанностей.
В период развития экономических отношений ребенок является субъектом и гражданских право‐ отношений – дети участвуют в различных конкурсах, получают призы, награды в материальном выраже‐ нии, имеют в собственности иное имущество. Из текста статьи 66 СК явно не следует, что роди‐ тель, проживающий отдельно, наделен в отноше‐ нии ребенка теми же представительскими полно‐ мочиями, то же касается и тех родителей, которые помещают ребенка в образовательное учреждение с проживанием.
Таким образом, родитель, проживающий от‐ дельно, не только фактически не имеет возможно‐ сти совершить все те же действия, что и родитель, проживающий совместно, но и юридически облада‐ ет более ограниченными правами и, соответствен‐ но, обязанностями.
После прекращения брачно‐семейных отноше‐ ний (либо при их отсутствии) у родителей общего ребенка сохраняются родительские права и обязан‐ ности, которые связывают этих взрослых лиц, до достижения общим ребенком совершеннолетия. Их обязанностью является непрепятствование другому родителю согласно закону (думается, следует раз‐ вивать положение статьи 1 СК РФ о взаимопомощи), то есть содействие друг другу в осуществлении ро‐ дительских прав и исполнении обязанностей.
Формулировка «участие в его воспитании» также свидетельствует не об основной роли в про‐ цессе воспитания ребенка. Безусловно, бывают си‐ туации, когда непродолжительное общение остав‐ ляет яркий след в памяти ребенка, имеет явное вос‐ питательное воздействие.
Сложность представляет принятие решений родителем, проживающим отдельно в отношении ребенка, то есть ответственность за его развитие, воспитание и заботы о нем. В какой степени роди‐ тель, проживающий отдельно, может и должен уча‐ ствовать в принятии решений в отношении ребен‐ ка? Согласно закону оба родителя имеют равные права и обязанности, однако фактическое равенство отсутствует. В этой связи интересен спор по иску отдельно проживающего родителя, рассмотренно‐ му в ВС РФ. Отец не дал разрешение на выезд в от‐ ношении ребенка, с которым мама хотела лететь на отдых в Египет в период, когда имело место офици‐ альное сообщение о возникновении в стране (мес‐ те) временного пребывания туриста угрозы безо‐ пасности его жизни и здоровью1 [35, с. 21–26]. Ду‐ мается, разрешение на выезд является элементом «участия в воспитании».
И. Г. Король пишет: «правомочие проживания со своими родителями является элементом содер‐ жания права ребенка жить и воспитываться в семье, т. е. возможность ребенка постоянно либо преиму‐ щественно жить и находиться в своей семье, воспи‐ тываться своими родителями либо, если это невоз‐ можно, жить в семье опекуна (попечителя), усыно‐ вителя или в приемной семье, а также предполагает наличие постоянного законного представителя ре‐ бенка» [22, с. 95]. Помимо проживания со своими родителями или опекуном, как полагают авторы, это право взаимосвязано с правом на общение ре‐ бенка со своими родителями и другими родствен‐ никами при нахождении его в экстремальной ситуа‐ ции (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в медицинском организации и т.д.) (п. 2 ст. 55 СК РФ), запрещено ограничение или ли‐ шение воспитанников контактов с родителями (за‐ конными представителями)2. Данное право ребенка может быть реализовано при активных действиях самих родителей, однако необходимы организаци‐ онные действия со стороны государства для воз‐ можности такого общения. Либо семейное право ребенка может быть осуществлено только при ак‐ тивных действиях со стороны государственных ор‐ ганов, которые направлены на выявление детей, оставшихся без попечения родителей, и на устрой‐ ство ребенка в семью.
Говоря о семейно‐правовой связи в детско‐ родительском правоотношении, нельзя не коснуть‐ ся вопроса о так называемой «родительской вла‐ сти», которая ушла в прошлое с 1917 года. Однако при характеристике и оценке родительских прав вспоминают институт «родительской власти», ее элементы, например об обязанностях детей, в част‐ ности, обязанности уважения своих родителей. Ав‐ торы обращали внимание, что при характеристике правоотношений между родителями и детьми обычно говорят лишь о родительских обязанностях, забывая об обязанностях детей [15, с. 18; 19, 238– 239]. При структурно‐функциональном подходе к определению корреспондирования прав и обязан‐ ностей логичен вопрос: кому же адресованы права родителей? Так, О. С. Иоффе писал, что общеприня‐ то говорить о личных правах родителей без упоми‐ нания о противостоящих им личных обязанностях детей, связывая это с тем, что в законе нигде не предусмотрены какие‐либо юридические санкции к детям, не исполняющим родительских требований воспитательного характера. Автор отмечал, что в брачно‐семейном законодательстве имеется право‐ вая охрана возлагаемых на детей обязанностей, хотя она и не выражается в юридических санкциях [19, с. 238–239]. Полагаем, особенность структуры правоотношения заключается в том, что праву роди‐ теля не противостоит обязанность ребенка в тот же период времени, так как право родителя обращено не к ребенку либо обращено ко взрослому ребенку по прошествии времени.
По мнению М. Н. Ершовой, высказанному в со‐ ветский период, проявлением родительской власти, ее элементом является наличие в законодательстве обязанностей детей «уважать родителей и соблю‐ дать их требования в области семейного воспита‐ ния» и возможности «родителей применения к де‐ тям мер воздействия воспитательного характера за недисциплинированность в семье».
М. С. Кокорина считает спорным вопрос о воз‐ можности закрепления за несовершеннолетним обязанностей, анализируя преимущества и недос‐ татки позиций. По ее мнению, законодатель оставил «проблемы, связанные с выполнением ребенком его нравственных обязательств перед родителями, семьей, за границами правового регулирования» [20, с. 70–75].
В действующем Семейном кодексе (п. 1 ст. 1) предусмотрена общая норма для всех субъектов семейных правоотношений и принцип построения семьи на чувствах взаимного уважения, любви и ответственности перед семьей. Думается, подобная норма сформулирована под влиянием общеприня‐ того мнения о том, что невозможно подвергнуть правовой регламентации чувства и эмоции челове‐ ка, но они являются неотъемлемым элементом в общественных отношениях, и правовое регулирова‐ ние опосредованно направлено на взаимное ува‐ жение в семье, в том числе со стороны детей в от‐ ношении родителей и, как писали О. С. Иоффе и Н. М. Ершова, соблюдение требований в области семейного воспитания. Вместе с тем отдельной нормы, детализирующей это положение статьи 1 СК, в отношении детей нет и вряд ли будет, но не следует забывать о воспитательной функции семей‐ ного права и статье 1 Семейного кодекса РФ, в част‐ ности. Помимо того, данная норма показывает для‐ щийся, изменяющийся характер семейного детско‐ родительского правоотношения.
В отношении осуществления прав родителей можно сделать вывод, что родительские права – сложная правовая категория, включающая ряд пра‐ вомочий, однако отказ от прав и составляющих пра‐ вомочий невозможен. Для обеспечения осуществ‐ ления родительских прав предусмотрен ряд право‐ мочий, направленных на защиту родительских прав (преимущественное право на обучение и воспита‐ ние и право требовать возврата ребенка), которые являются абсолютными и обращены к неопреде‐ ленному кругу лиц, в том числе из числа членов се‐ мьи. Праву ребенка корреспондирует обязанность родителя, которому принадлежит право требования к иным лицам. В некоторых случаях в результате осуществления права требования семейное право‐ отношение переходит в иную отраслевую принад‐ лежность. Соответственно, осуществление прав ре‐ бенка и родительских прав и обязанностей имеет полиотраслевой характер.
Логичен вывод, что семейные правоотношения являются сложными и осуществляются посредством последовательной смены, чередования как собст‐ венных действий, так и требования (обеспечения) совершения действий от иных обязанных лиц, в том числе не членов семьи, но в результате их действий осуществляется право ребенка или нетрудоспособ‐ ного нуждающегося лица.
Права ребенка можно условно подразделить следующим образом:
– права и законные интересы, обеспечиваемые действиями родителей (лиц, их заменяющих) (на‐ пример, право на заботу, право на совместное про‐ живание, право на общение, право на имя, право ребенка на общение с иными родственниками (ст. 55 СК РФ)).
– права, обеспечиваемые государством и пол‐ номочными органами (например, право на устрой‐ ство в семью, право знать своих родителей, в той части насколько это возможно), право ребенка на общение с обоими родителями, в том числе при нахождении ребенка в экстремальной ситуации (задержание арест, заключение под стражу, нахождение в медицинском организации и т.д.) (п. 2 ст. 55 СК РФ).
Структура осуществления прав и исполнения обязанностей иных членов семьи
К иным членам семьи, между которыми имеет место семейно‐правовая связь, можно отнести ба‐ бушек, дедушек, братьев и сестер, которых законо‐ датель наделили правами и в некоторых случаях обязанностями. К этой же категории иных лиц отно‐ сятся отчим, мачеха, пасынок, падчерица, фактиче‐ ский воспитатель, но у этих субъектов имеются от‐ личие от предыдущей группы.
Основываясь на взаимопомощи в семейных от‐ ношениях, бабушки и дедушки фактическими дейст‐ виями оказывают помощь родителям в их деятель‐ ности по воспитанию и заботе о ребенке. Однако степень их участия в воспитании и заботе о ребенке с позиции права не оговорена и не предусмотрена, это фактические действия, юридическую ответственность за которые несут родители1. Законодатель наделил их правом на общение и в определенных законом случаях на получение в судебном порядке алиментов (ст. 67, гл. 15 СК РФ). Поэтому отдельным блоком можно выделить права иных лиц, к которым отнесе‐ ны бабушки, дедушки, братья и сестры (полнородные и неполнородные). Определяя отличительные осо‐ бенности семейно‐правовых связей этих субъектов, следует обратить внимание на основания возникно‐ вения субъективных семейных прав и обязанностей. По общему правилу, для возникновения правоотно‐ шения необходимо взаимное волеизъявление субъ‐ ектов (в случае супружеского – обоих) или как мини‐ мум одного из них (одного из родителей в детско‐ родительском правоотношении), у рассматриваемых же лиц семейные права, а в некоторых случаях и обя‐ занности, возникают без какого‐либо их волеизъяв‐ ления. При рождении ребенка правовая связь меж‐ ду родителем (материнство/отцовство) и ребенком возникает в силу наличия кровного родства и удо‐ стоверенного в установленном законом порядка, т. е. происхождения одного от другого. Для бабушек и дедушек, братьев и сестер эта правовая связь уста‐ навливается без какого‐либо их согласия2. При уста‐ новлении усыновления (удочерения) от предпола‐ гаемых бабушек и дедушек, братьев и сестер также согласия не требуется.
Еще более интересным представляется право‐ вая связь в отношении свойства, которое, по мне‐ нию некоторых авторов [5, с. 26; 3, с. 34; 33, с. 22], утрачивается при прекращении брака. У бабушки и дедушки есть право на общение с внуком, который может проживать с родителем, не являющимся их взрослым сыном или дочерью. Соответственно, ро‐ дитель, действуя в интересах ребенка, обеспечивает осуществление права ребенка на общение с бабуш‐ кой, дедушкой. Законодатель не указывает, чьим родителем является бабушка или дедушка, то есть семейно‐правовая связь свойства сохраняется.
В результате возникает правоотношение на ос‐ новании зарегистрированного брака, либо в силу установленного, признанного отцовства (материнст‐ ва), в котором проявляется правовая связь между бабушкой, дедушкой и внуком, внучкой. Эта право‐ вая связь возникает не по воле самих бабушек и дедушек, однако наделяет их правами, а в особых случаях и обязанностями. В данной ситуации прояв‐ ляется особенность семейных правоотношений. Тем более что правом на оспаривание отцовства, мате‐ ринства (установление усыновления) они не наде‐ лены, но права и обязанности возникают у них в том числе и в иных отраслях (например, в жилищных, наследственных и пр.).
Таким образом, это единственная правовая связь, возникающая не по воле правообладателей и прекращающаяся в некоторых случаях (например, в случае оспаривания отцовства (материнства), отмены усыновления) не по воле самих субъектов. Суть права этих лиц заключается ни в чем ином, как в обязанно‐ сти родителя (лиц, их заменяющих) не препятство‐ вать осуществлению этого права бабушкой, дедуш‐ кой, братьями, сестрами, если это общение не проти‐ воречит интересам ребенка и ответственность за принимаемое решение несут родители. Личные пра‐ ва этих лиц существуют в сложном правоотношении, это дает основания считать их относительными, обя‐ занным лицом является родитель, он предоставляет возможность и обеспечивает общение.
В балансе с этими правами находится и ответ‐ ственность родителя за воспитание ребенка, в рам‐ ках которой именно родитель несет ответственность за заботу о ребенке, его воспитание и развитие [16, с. 105–108]. Если родитель полагает, что такое об‐ щение нарушает права ребенка, причиняет ему вред (психический, физический, нравственному раз‐ витию), то именно на родителя возложена обязан‐ ность действовать в интересах ребенка.
Помимо того, следует отметить, что в отноше‐ нии осуществления права действует предел, кото‐ рый с позиции позитивизма указан в законе. Осно‐ вываясь на современных представлениях, закреп‐ ленных в Конвенции о правах ребенка, подчеркнем, что именно интересы ребенка, являются опреде‐ ляющим пределом осуществления прав бабушек и дедушек, иных членов семьи.
Важен вопрос о семейно‐правовой связи маче‐ хи, отчима с пасынком, падчерицей. Основанием возникновения правовой связи является состояние в браке с родителем ребенка. Фактически эти лица проживают с ребенком, однако правами и обязан‐ ностями в этот период не наделены, так как в отно‐ шении ребенка родительские права осуществляет и исполняет обязанности отдельно проживающий родитель. Он наделен родительскими правами и обязанностями, но фактические отношения, скла‐ дываются с отчимом и мачехой, которые ежедневно проживают с ребенком. Они ежедневно общаются и фактическим поведением воспитывают ребенка, к сожалению, законодатель не указывает, что они ответственны за воспитание и развитие пасынков и падчериц. Следует иметь в виду, что общечеловече‐ ские ценности, в том числе, гуманность, разумность, справедливость пронизывают все отношения. Ло‐ гично, что при отсутствии наделения их родитель‐ скими правами недопустимо обращение отчи‐ ма/мачехи с ребенком пренебрежительно, грубо, унижая человеческое достоинство, оскорбляя, экс‐ плуатируя ребенка (предусмотренные абз. 2 п. 1 ст. 65 СК РФ), то есть применяются те же пределы, что и при осуществлении родительских прав в от‐ ношении к родному ребенку. Отчим и мачеха не вправе совершать иные действия, способные при‐ чинить вред развитию ребенка (физическому, пси‐ хическому, здоровью или нравственности). Возник‐ новение правовой связи рассматриваемых субъек‐ тов основано косвенным образом на волеизъявле‐ нии отчима, мачехи, давая согласие на брак, они соглашаются на фактическое общение и воспитание пасынка и падчерицы. Согласие ребенок может вы‐ разить родителю с учетом права ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ), впоследствии девиант‐ ное поведение ребенка может являться результа‐ том семейного неблагополучия ребенка. Кроме то‐ го, на мачеху и отчима не возлагаются обязанности по содержанию ребенка, фактическими действиям они могут содержать ребенка. Однако спустя годы мачеха, отчим, фактический воспитатель может вос‐ пользоваться своим субъективным правом и предъ‐ явить требование о взыскании алиментов. Фактиче‐ ские воспитатели не обладают правовой связью в период исполнения фактических действий по воспи‐ танию и заботе о ребенке. Их статус устанавливается в судебном порядке, в результате чего возникает правовая связь.
Логично сделать вывод, что семейно‐правовые связи иных членов семьи имеют особенность воз‐ никновения – отсутствует волеизъявление, структу‐ ра правоотношения сложная, имеется специфика корреспондирования семейных прав и исполнения обязанностей.
Заключение
Личность и ее права являются ключевым эле‐ ментом в исследовании субъективных семейных прав. Реальность осуществления семейных прав и исполнения обязанностей обусловлена структурой семейно‐правовых связей.
Корреспондирование прав и обязанностей по‐ зволяет выявить направленность движения семей‐ ного правоотношения. С учетом особенностей се‐ мейно‐правовой отрасли предложена классифика‐ ция видов корреспондирования прав и обязанно‐ стей: невзаимное корреспондирование; взаимное; отсроченное корреспондирование. Невзаимное предполагает, что праву лица соответствует обязан‐ ность другого, представленная правомочием требо‐ вания от иного лица. Направленность обязанности и правомочие родителя проявляется в относительном или абсолютном правоотношении, в том числе вы‐ ходящем за пределы отрасли семейного права. Вза‐ имное – традиционное корреспондирование, праву одного лица корреспондирует обязанность другого лица. При отсроченном корреспондировании ис‐ полнение обязанности будет востребовано по про‐ шествии времени при нахождении в состоянии пра‐ вовой связи субъектов.
Список литературы Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей в структуре семейного правоотношения
- Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Юрид. лит. 1966. 187 с.
- Антокольская М. В. Семейное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма Инфра-М, 2010. 432 с.
- Бахтиаров И. П. Физические лица как субъекты семейных правоотношений: дис. ... канд. юрид наук. М., 2010. 148 с.
- Белякова А. М., Ворожейкин Е. М. Советское семейное право: учебник. М.: Юрид. лит. 1974. 304 с.
- Блохина О. Ю. Семейное право: конспект лекций. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2001. 110 с.
- Боровиковский А. Л. Конституция семьи по проекту Гражданского уложения. СПб.: Сенаторская типография, 1902. 42 с.
- Вавилин Е. В. Принципы гражданского права. Механизм осуществления и защиты гражданских прав / Саратов. юрид. акад. Саратов: Изд-во СГЮА, 2012. 364 с.
- Генкин Д. М. Сочетание прав и обязанностей в советском праве // Советское государство и право. 1964. № 7. С. 27-38.
- Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 6-е изд., пере-раб. и доп. М.: Проспект, 2008. Т. 1. 773 с.
- Гражданско-правовые механизмы в циви-листических исследованиях: монография / отв. ред. С. Ю. Морозов. М.: Проспект, 2023. 600 с.
- Гукасян Р. Е. Концепция слияния прав и обязанностей и административно-командные методы управления // Советское государство и право. 1989. № 7. С. 26-34.
- Данилин В. И., Реутов С. И. Юридические факты в советском семейном праве. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 156 с.
- Елисейкин П. Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. Ярославль, Изд. Ярославского гос. ун-та, 1975. 93 с.
- Ем В. С., Суханов Е. А. О видах субъективных гражданских прав и о пределах их осуществления // Вестник гражданского права. 2019. № 4. С. 7-21.
- Ершова Н. М. Правовые вопросы воспитания детей в семье. М.: Изд-во Наука, 1971. 103 с.
- Ильина И. Ю. Конфликт интересов детей и других родственников ребенка в семейных правоотношениях // Конституция Российской Федерации и современный правопорядок: материалы конф.: в 5 ч. М.: РГ-Пресс, 2019. Ч. 3. 264 с.
- Ильина О. Ю. Семейно-правовые связи как критерий формирования правоприменительной практики // Семья и семейные ценности в РФ: социально-правовой аспект: материалы Междунар. на-учно-практ. конф., приуроченной к юбилею доктора юридических наук, проф. Ю.Ф. Беспалова. 2019. С. 117-131.
- Ильина О. Ю. Частные и публичные интересы в семейном праве Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. 374 с.
- Иоффе О. С. Советское гражданское право. Ч. 3. Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. 611 с.
- Кокорина М. С. Семейно-правовые основы воспитания детей в современной России: монография. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2011. 115 с.
- Комиссарова Е. Г., Краснова Т. В. Право ребенка на семейное воспитание: регулятивный аспект // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 4. С. 672-697.
- Король И. Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Российской Федерации: науч.-практ. пособие. М., Проспект. 2010. Доступ через справ.-правовую систему «Консультант Плюс».
- Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т. Т .1. М.: Статут, 2005. 491 с.
- Крашенинникова Е. А., Мотовиловкер Е. Я. О единстве субъективных прав и юридических обязанностей // Вопросы теории юридических обязанностей: тез. Межвузов. науч. конф. молодых ученых-юристов. Воронеж, 1988. 232 с.
- Кулаков В. В. Сложные обязательства в гражданском праве: дис. ... д-ра юрид. наук. М, 2011. 382 с.
- Лившиц Р. З. Современная теория права: Краткий очерк / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. М.: ИГПАН, 1992. 92 с.
- Летова Н .В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. М.: Волтерс Клу-вер, 2006. 245 с.
- Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. 5-е изд. М.: Дело, 2018. 528 с.
- Нечаева А. М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. М.: Наука. 1991. 240 с.
- Нечаева А.М. Семья и закон. М.: Наука. 1998. 128 с.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., Рус. язык, 1987. 798 с.
- Орзих М. Ф. Личность и право. М.: Юрид. лит., 1975. 112 с.
- Мананкова Р. П. Пояснительная записка в Концепции проекта нового Семейного кодекса Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2012. № 4. С. 26-42.
- Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. М.: Гос. изд-во полит. лит. 1955. Т. 3. 629 с.
- Маханта С. Споры по выезду за границу // Административное право. 2019. № 2. С. 21-26.
- Пергамент А. И. Основания возникновения и сущность родительских прав // Правовые вопросы семьи и воспитания детей. М.: Юрид. лит., 1968. С. 53-62.
- Пергамент А. И. Родительские права и обязанности // Ленинские идеи и новое законодательство о браке и семье:тез. докл. науч. конф., по-свящ. столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Саратов, 1969. с. 26-34/
- Победоносцев К. Курс гражданского права. Сочинение в 2 ч. СПб.: Синодальная типография. 1896. Ч. 2. Права семейственные, наследственные и завещательные. 676 с.
- Рясенцев В. А. Семейное право. М.: Юрид. лит. 1971. 296 с.
- Свердлык Г. А., Страунинг Э. Л. Защита и самозащита гражданских прав: учеб. пособие. М.: Лекс-Книга, 2002. 208 с.
- Семейное воспитание. Словарь / под ред. М. И. Кондакова. М.: Педагогика, 1972. 143 с.
- Советское семейное право / под ред. B. А. Рясенцева. М., 1982, 256 с.
- Третьяков С. В. Субъективное право как «последняя абстракция» цивилистики: генезис и структурные компоненты классической волевой теории // Вестник гражданского права. 2020. № 2. С. 18-59.
- Ульбашев А. Х. Общее учение о личных правах. М.: Статут, 2019. 255 с.
- Ульянова М. В. Объект семейного правоотношения // Современный юрист. 2019. № 4 (29). C. 143-153.
- Ульянова М. В. Право ребенка выражать свое мнение: содержание, порядок и пределы осуществления // Lex Russica. 2022. Т. 75, № 11 (192). С. 3141. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.192.11.031-041.
- Фомина Е. А. Споры о праве на воспитание детей (материально-правовые и процессуально-правовые проблемы): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004 163 с.
- Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. 352 с.
- Хохлов В. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договоров: дис. ... д-ра юрид. наук. Самара, 1998. 349 с.
- ЧеговадзеЛ. А. Структура и содержание гражданского правоотношения. М.: Статут, 2004. 542 с.
- Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Общая часть, первый полутом. М.: Изд-во иностр. лит., 1949. 251 с.
- Яковлев В. Ф. К проблеме гражданско-правового метода регулирования общественных отношений // Антология уральской цивилистики 19251989 / сост. Д. В. Мурзин. М.: Статут, 2001. С. 360-379.
- Ямпольская Ц. О. О теории административного договора // Советское государство и право. 1966. № 10. С. 132-136.
- Poortman A.-R. More than Two Parents? Divorced and Separated Parents' Attitudes Toward Parental Responsibility and Legal Parenthood of Stepparents in the Netherlands // Family & Law. 2023. URL: https://www.familyandlaw.eu/tijdschrift/fenr/2023/ 06/FENR-D-22-00003.