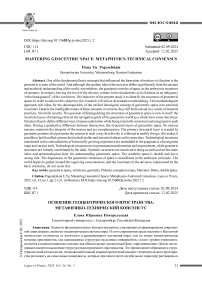Освоение геоцентрического пространства: метафизико-технический консенсус
Автор: Погорельская Е.Ю.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Одним из фундаментальных базовых концептов, повлиявших на формирование современной цивилизации, является геоцентрическая система мира. И хотя современное представление о Вселенной значительно отличается от античного и средневекового осознания мира, тем не менее геоцентрические метрики пространства, как зародышевые структуры смысловых инвариантов, уходя с уровня очевидного, остаются в цивилизационных основах как обязательный «реликтовый фон» миропонимания. Целью исследования является выделение структур геоцентрического пространства. Это предполагает обращение к структуралистской методологии, позволяющей единый мировоззренческий концепт геоцентрического пространства разложить на смысловые инварианты, которые при своем интеллигибельном характере растворены в разнообразных материальных практиках. Вопрос о выделении структур геоцентрического пространства сам по себе нов: в фокус внимания попали инвариантные слои смыслов, которые задают навигационные сетки геоцентрического мира в целом. Структурные слои предполагают разные способы освоения пространства, являясь при этом внутренне согласованными и конгруэнтными друг другу. Имея между собой качественное различие, структурные слои геоцентрического пространства по разным основаниям поддерживают целостность космоса и являются взаимодополнительными. Первичный структурный слой создают геометрические закономерности, пронизывающие космос таким образом, что Небо отражается в земных вещах: это позволяет выстраивать единые системы, включающие в себя звездные и земные объекты одновременно. Технологические структуры, проявленные в противоречиях исторически нарастающего опыта, оседают в прагматике навигационных карт и различных инструментах. Технологические структуры находятся в перманентной трансформации и совершенствовании, в то время как геометрические структуры изначально обусловлены идеальным. Символические структуры растворены в бытии как таковом и являются основным ценностным и гносеологическим слоем для понимания геоцентрического пространства. Символическое пространство двойное и имеет изнанку. Вырожденность геоцентрических структур пространства проявлена в антропном принципе. Мир начинает собираться вокруг познающего сознания, причем инварианты Вселенной, представленные основными константами, не сопротивляются этому.
Геоцентрическое пространство, структуры, геометрия, Птолемей, навигационные карты, Меркатор, Данте, двойное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/149148180
IDR: 149148180 | УДК: 114 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.1.2
Текст научной статьи Освоение геоцентрического пространства: метафизико-технический консенсус
DOI:
Развитие знания и технических средств во многом обусловлено особенностью мировоззрения, внутри которого они родились. Геоцентрическая система мира как определенная совокупность ценностей и взглядов на мир предполагает особое представление о пространстве и способах его освоения. Во-первых, вопросы пространственного освоения мира зависят от представления о космосе в целом; во-вторых, освоение пространства обусловлено теоретическими и практическими задачами, в решении которых происходит обнаружение и порождение новых структур; в-третьих, пространственное мироощущение во многом символично и уходит корнями в фундаментальные основы сущего, в вопросы о бытии.
Каждый из предложенных тезисов ведет к выявлению онтологических структур. Структурный уровень организации бытия предполагает, что можно выделить некоторые инвариантные образования / структуры, которые направлены на актуализацию целостности бытия. Структуры – точки сборки, вариативные друг относительно друга, тем не менее имеющие вид «семейного сходства». Геоцентрическое пространство пронизано структурами, они существуют идеально, но погружены в реальные практики и сюжеты: «Виртуально существующие структуры погруже- ны во множественность конкретного» [Бряник 2020, 83].
Целостность мира тянет за собой требование единой истины. Единой – но не единственной . Истинностное знание собирает мир в целостность, обнаруживая очередную структуру.
Геометрическая структура геоцентрического мира
Для античной и средневековой философии знание о пространстве имеет непосредственное отношение к вопросам о космосе, который интуитивно полагается как целый. Многообразие вещей и явлений целостность мира не нарушают. Эдмунд Гуссерль в своей работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» [Гуссерль, 1994] обращает внимание на то, что для мироощущения эллина идея единства мира была первичным самоочевидным фактом, поэтому изучать, ориентироваться и обустраивать мир предполагалось исходя из его целостности. Целостность мира, целостность бытия не про-блематизировалась вообще, как не возникало вопроса о том, существует ли этот мир. Мир есть, он целый, он един [Telo 2022]. Единство и целостность мира не подрывали ни сложный динамичный характер этого единства (Гераклит), ни разнородность вещей и мыс- лей (Парменид), ни низкий онтологический статус материальных предметов и трансцендентная удаленность идей (Платон), ни разница в организации природ (Аристотель). Космос – упорядоченная воплощенная красота, единая и совершенная, поскольку противоположное безобразно и нелогично.
Мир очевидно протяжен, он пространственен. Единство мира захватывает Небо и Землю, жизнь подтверждает возможность в земных делах ориентироваться на незыблемость небесного свода. Геометрические идеальные фигуры могут строиться из точек, находящихся в принципиально разных пространственных местах, но предполагающих онтологическую целостность.
Использование геометрии как метода понимания мира связано с определенной творческой интуицией. Геометрический подход к миру – особый вид абстракции, отнюдь не очевидный и являющийся специфическим способом взаимодействия с эмпирической реальностью, но кто-то должен был быть первым геометром, поэтому геометрическое мышление, видение идеальных пространственных фигур – это особого рода изобретение. Не всякому человеку такое видение дано, и далеко не всякий положит геометрический подход в освоение пространства, но многие не против воспользоваться полезностью этого изобретения, например в создании земных и небесных карт. Познание мира происходит шаг за шагом, и всякая истина представлена как традиция усилий, держащих в себе «смысло-образование и смыслооседание», – поясняет Гуссерль [Гуссерль 1996, 235]. Для европейской традиции, имеющей корни в античной культуре, привычно связывать пространственные характеристики с геометрическими рассуждениями. Структурная логика пространства – геометрия. Конечно, эта логика может иметь вариации, но она всегда будет иметь дело с протяженностями и дистанцией. Земля смотрелась в Небо, и потому первичные карты земных территорий строились согласно единой геометрии мира, равнялись на нее. Комментируя работу Гуссерля «Начала геометрии», Жак Деррида пишет: «Геометрия представляет собой материальную онтологию, чей объект задан как пространственность естественной вещи» [Деррида 1996, 20].
Геометрические задачи одновременно идеальны и историчны. Историчность геометрии прослеживается через характерные усилия математиков, где всякое новое знание «не дается без усилий», но требует определенной творческой настырности; при этом порождаются идеальные объекты, которые, однако, не выходят за рамки исторической ситуации. В этом смысле герменевтические интерпретации геометрических объектов опираются на геоцентрическую систему мира: пространство для античного и средневекового геометра ориентировано на существование идеальных областей и сущностей. Но идеальные сущности, например идеальные многогранники, существуют в определенном месте, что поддерживается системой мира. Идеальные объекты, к которым относятся геометрические фигуры, являются предметом теоретического знания. Г.В. Болдыгин замечает, что «предметами теоретических знаний являются объекты, возникновение, способ существования и изменения которых не зависят от чьего-либо произвола» [Болдыгин 2014, 127].
Греки создают геоцентрическую модель мира. В центре этого мира находится шарообразная Земля. Представление о шарообразности Земли «является греческим изобретением» [Щетников 2012, 385], этой теории не было ни у египтян, ни у вавилонян, ни у индийцев. Первая версия шарообразности Земли возникла у Пифагора, объясняющего этот факт тем, что шар – самая прекрасная фигура, а поскольку Земля очевидно прекрасна, то логика требует для нее самой совершенной формы. Впоследствии в труде «О небе» Аристотель выскажет существенные аргументы в пользу идеи сферичности Земли: «...раз Луна затмевается потому, что ее заслоняет Земля, то причина такой формы – округлость Земли, и Земля шарообразна» [Аристотель 1981, 339– 340]. С пониманием формы земного шара связан вопрос о его размерах. Например, Эратосфен, измеряя окружность Земли, исходил из угловой высоты Солнца и расстоянием между Сиеной и Александрией. Эратосфен полагал, что расстояние по прямой между Сиеной и Александрией составляет 5 000 стадиев, причем Сиена расположена в тропике Рака, где в полдень летнего солнцестояния предметы не отбрасывают тени и солнечные лучи падают на самое дно глубоких колодцев [Браун 2022]. Это означает, что лучи Солнца по отношению к Земле в это время имеют угол 90 градусов. Александрия, в свою очередь, расположена на одном меридиане с Сиеной, только севернее. В полдень летнего солнцестояния Эратосфен измерил длину тени обелиска, находящегося в Александрии [Браун 2022]: зная высоту обелиска и имея длину его тени, он получил воображаемый треугольник, сторонами которого были обелиск и тень, а гипотенузой – солнечный луч. В итоге получалось, что лучи Солнца падают на Землю под углом чуть большим 7 градусов, а это составляет 1/50 окружности. Если 5 000 стадиев (дальность между Александрией и Сиеной) умножить на 50, то получится величина Земного шара – 250 000 стадиев, что почти совпадает с современными данными о размерах Земли. Также, с ориентацией на Солнце, Земля «получила» свои первые параллели – экватор, тропик Рака и тропик Козерога: это те направления в окружности Земли, где Солнце в определенный день находится в зените – солнечный луч падает на Землю под углом 90 градусов, и материальные предметы в эти дни не отбрасывают тени. На экваторе это случается в дни равноденствий, а на тропиках – в дни солнцестояний. География во многом полагается на астрономию, и обе они связаны с геометрической структурой пространства. Важно заметить, что представление о шарообразности земли – основное условие научной картографии.
Геометрия – это не только фигуры, геометрия – это еще направления. В античности символом направления было действие ветра. Привычное нам художественное выражение «роза ветров» на самом деле не является красивой метафорой, а свидетельствует именно о том, что понимание вектора движения связывалось прежде всего с господствующими ветрами. Они неслись с разных сторон света, имели название и характер, описание чего можно найти уже у Гомера [Гомер 1982].
Аристотель в «Метеорологике», объясняя расположение ветров, опирается на геометрическую, симметричную круговую схему земного шара: «пусть точка А – равноденственный заход, а противоположная этой точке В – равноденственный восход. Другой ди- аметр пересекает этот под прямым углом, и пусть точка Н на нем будет севером, а диаметрально противоположная ей точка Θ югом. Пусть точка Z – это летний восход, а точка E – летний заход, Δ – зимний восход и Г – зимний заход. От Z проведем диаметр к точке Г, и от Д к точке Е. Поскольку же точки, пространственно наиболее удаленные друг от друга, являются пространственно противоположными, а концы диаметра удалены более всего, то противоположными друг другу должны быть ветры по концам диаметров» [Аристотель 1981, 495–496].
Для Аристотеля ветры, дующие во встречных направлениях, борются за господство, и более слабый из них подчинен и укрощен более сильным, но если ветры попутные, как, например, Z и Δ , то они усиливают друг друга и могут дуть одновременно. В таком понимании Аристотеля проявляется логикогеометрический подход, поскольку если бы дела обстояли на самом деле так – никаких штормов бы не было. «Латинская роза двенадцати ветров была принята по всей Римской империи от Египта до Испании и использовалась до конца Средневековья», – пишет Ллойд Браун [Браун 2022, 191].
Целостная система геоцентрического пространства представлена в работе Клавдия Птолемея «Великое математическое построение в 13 книгах», которое сохранилось в латинском варианте как «Альмагест». Птолемея интересует структура космоса в целом и положение Земли в нем. Важно знать, по мнению этого ученого, под какой звездой каждая часть Земли находится, поскольку карта Земли симметрична карте Неба. Птолемей делает вывод, что «наиболее достоверный способ определения расстояний – астрономические наблюдения; ни один другой метод не дает возможности точно определить положение точки на поверхности Земли» [Браун 2022, 102]. С этим связано использование инструментов, таких как астролябия и настенный квадрант. Эти приборы позволяли определить долготу, широту и суточное время. Метафизико-технологическим трактатом, описывающим геоцентрическое пространство, является «География» Птолемея, содержащая серию карт разного масштаба. Через карты и инструменты геометрия связана с технологией.
Технологические структуры геоцентрического мира
Освоение пространства – вопрос прагматический и технологический одновременно. Прагматика освоения пространства вытекает из необходимости и способности человека ставить определенные цели и решать конкретные жизненные задачи, например любой вопрос путешествий / перемещений / завоеваний предполагает вопрос «зачем?» и тактические шаги для реализации заданной цели. Технологический потенциал освоения пространства традиционно связывают с накоплением самообновляющегося опыта.
В практике освоения пространства геоцентрического мира это проявлено следующим образом.
Карта – техническая вещь, предлагающая путнику или мореплавателю определенную логику местности. От правдивости карты зависит пошаговый маршрут, возможность достичь цели путешествия, а часто и жизнь человека. Для осуществления навигации требуются морские карты и разного рода приборы, позволяющие безопасно и наиболее оптимально по затратам доплыть до необходимой гавани. Понятно, что Земля – шар, но как это поможет добраться из пункта А в пункт Б?
Карта – копия части мира, «неизменяемая мобильность», как называет ее Бруно Латур [Латур 2017], это реальность, которую «можно положить в карман». Однако карты не возникают в один момент, обычно это серийная акция, связанная с многократным прохождением одного и того же маршрута: карты подразумевают живой опыт, находящийся в постоянном синтезе саморедактирования. Цель уточнения любой карты местности – создать неизменяемую мобильность. На карте информация организована таким способом, что ее можно привезти как вещественное доказательство, как факт. По большому счету Латур апеллирует к «серым» рутинным практикам фиксации записей, которые позволяют переносить знания сквозь расстояния и времена.
Древние навигационные карты не сохранились, возможно, это было связано с тем, что информация на них была тайной, стратегической для правителей полисов или связанной с непосредственной возможностью богатого улова у рыбаков. В древности знание пути до места лова рыбы имело денежный эквивалент. Хорошие карты создавались «для себя, для своих» и бывало, что при определенных обстоятельствах сознательно уничтожались. Таинственная природа карт была связана с их политическим и экономическим значением.
Считается, что первыми морскими картами пользовались финикийцы, об этом упоминает Геродот, но фактически сохранившиеся карты, портуланы – карты прибрежных вод или карты гаваней – датируются только XIII веком. Портуланы – карты особые, фрагментарные. Сначала снимались карты конкретных бухт или участка береговой линии, впоследствии эти карты совмещались и так изготавливались большие карты Средиземного моря, Черного моря, Индийского океана. Карты создавались очень медленно, и этот процесс напрямую был связан с конкретными морскими путешествиями. Нарисовать карту согласно геометрии пространства можно, но она не будет иметь практического значения, поскольку любой морской поход, кроме умозрительной геометрии, предполагает знание направления течений, безопасность гаваней, наличие в местах стоянок пресной воды, и главное, направление ветров. Оптимальный путь – не самый короткий, а с наименьшими потерями. Навигация – отдельное значительное искусство (techne), и теоретической модели тут мало. Люди, которые рисовали карты, ориентировались, прежде всего, на прагматику. «Расстояния на морских картах важны, но направление еще важнее. Прибыть в точку назначения позже может быть и неприятно, и даже опасно, но без точного знания направления навигатор не прибудет туда вовсе», – пишет Браун [Браун 2022, 186]. Направления на картах были указаны «розой ветров», которая придумана еще до компаса.
Свободная натура ветров не отменяет географической определенности и позволяет использовать их силу и направление в интересах навигации. Способность ладить с течением, с ветрами, знать особенности берегового рельефа, опасные зоны и тихие надежные гавани, умение находить правильный маршрут по звездам и использовать карты – все это составляло талант (techne) мореплавателя, или, как говорит Платон в диалоге «Государство», подлинного кормчего, «который должен учитывать времена года, небо, звезды, ветры – все, что причастно его искусству, если он действительно намерен осуществлять управление кораблем» [Платон 1994, 267–268].
Вечное небо, если погода хорошая и звезды видно, давало отчетливые ориентиры в бескрайнем море. Но как ориентироваться, если берега не видно и Вечное небо затянуто тучами? Развитие картографии дополнено изобретением компаса. Когда возник компас и кто его автор – сказать сложно. Есть версии, что первые прообразы компаса изобрели китайцы, о притягивающей силе магнетита писал уже Платон, а финикийцы, имеющие колонии по всему Средиземноморью, ориентировались в бескрайнем море еще до Платона. Первые версии компаса представляли собой чашу с водой, в которую была помещена соломинка, пронзенная иглой. Эту иглу предварительно натирали о коричневый камень, который называли магнетитом. Особенность действия магнетита проявлялась в том, что металлические предметы, натертые им, начинают вести себя однозначным и характерным образом. Острие плавающей иглы обязательно поворачивает на север в сторону Полярной звезды, и потому такая конструкция может быть использована в навигации. Впоследствии магнитная стрелка была насажена на металлический стержень, который был совмещен с неподвижным деревянным лимбом, разделенным на 360 градусов. «Пункты компаса и самой розы ветров переносились на морские карты. Из каждого из тридцати двух пунктов по периметру карты веером расходились линии (румбы)», – пишет Браун [Браун 2022, 202]. По румбам определялось направление движения, то есть реализовывалась практическая цель навигации. Проблема, однако, заключалась в том, что карта плоская, а Земля – шар. Как реализовать движение согласно компасу по круглой планете, ориентируясь на цель, указанную на плоской карте, особенно если цель далеко?
На наш взгляд, для появления различных проекций (или по-другому – точек зрения, разных логик видения) должно было сформироваться представление о линейной перспективе, которое превратило метафизический кос- мос в картину мира, появление которой в качестве «особого мироотношения связано с трансформацией античного techne в техническую реальность» [Погорельская 2024а, 59–60]. Рождение «картины мира» и линейной перспективы во многом связано с появлением такого технического аппарата, как cameraobscura, которая позволяла создавать плоские копии объемных предметов благодаря действию световых лучей. Камера-обскура представляет собой темный ящик, в стенке которого сделано отверстие, и световые лучи, проходящие сквозь это отверстие, отбрасывают на противоположной стенке ящика перевер-нуые изображения реальных предметов, схваченных этими лучами, то есть находящихся в непосредственной близости с самим аппаратом. Считается, что изобретение этого технического устройства принадлежит художникам и архитекторам Ренессанса. Мир под технически организованным взглядом превращается в картину, возникает объективный взгляд на мир, а иначе взгляд, организованный объективом. «Камера-обскура работает лишь с реальным материалом, что было окончательно доказано ее дальнейшим развитием в фотокамеру. С ее помощью невозможно воспринять то, что не существует», – пишет Фридрих Киттлер [Киттлер 2009, 61]. Точка зрения в гносеологической позиции, ее условия и место локации становятся принципиальными. К традиции геометрической точности добавляется возможность эмпирической фиксации истины. Но как эмпирическую фиксацию и геометрическую точность применить к движению корабля по округлой планете?
Значимость перспективы проявилась в важности сочетания геометрии с реальной практикой кораблевождения. Морские карты – идеальная модель, от которой требовалось практическое руководство к действию, то есть по сути противоречивое или точнее дополняющее свойство, которое обнаруживается только в реальной практике. Но для открывателя новых земель сложность – это не аргумент. Необходимо создать такую инструкцию, которая позволяет добиваться результата с наименьшими потерями, а значит, будет сочетать в себе истинностные противоречия. «Объективность достигается только за счет увеличения точек наблюдения», – пишет Том- мазо Вентурини [Вентурини 2018, 58]. Можно сказать, что целостность космоса проявляется через разные структуры, переход между которыми возможен, как, например, в проекции Меркатора. Здесь структуры накладываются одна на другую. Проекция Герарда Меркатора (1569 г.) создавала особую симметрию между объемным миром и плоской картой, она разрешала островам и континентам расползаться, менять размеры, выглядеть с позиции линейной перспективы искаженно, но при этом позволяла геометрически точно проложить путь из точки А в точку Б и, двигаясь по проложенной траектории согласно компасу, практически осуществить задуманный план, то есть приплыть в точку Б. Одна сложность – карта Меркатора позволяла добраться куда требовалось, но расстояния на ней искаженные и поэтому невозможно рассчитать время в пути. Эту проблему помог решить Эдвард Райт, который определил «для каждого градуса широты коэффициент изменения масштаба для соответствующей параллели» [Браун 2022, 213]. Таким образом появилась справочная таблица Эдварда Райта (1599 г.), а с ней и возможность понимания точного положения корабля. Идеальная структура евклидовой геометрии корректируется, исходя из реальной практики навигации, требующей адаптировать модель к каждой конкретной ситуации. Проекция Меркатора настолько удачна, что человечество ей пользуется до сих пор, это касается не только морских и аэронавигационных карт, но и нашего «домашнего» Яндекса. Увидеть треки Меркатора можно и в космическом пространстве: снимки, сделанные спутниками, попадают на Землю путями, проложенными в логике этой проекции.
При разных подходах к понятию истины важно одно: истина объемна. Она не укладывается в регулятивную идею, принцип корпоративного соглашения или соответствия. Объемность / множественность истинностных ликов не ставит под сомнение ценность истины, не скатывается в трюизм, что 2 х 2 = 4. Истина глобальна и множественна одновременно, имея иерархию внутри себя, она не изменяет своей природе совершенства. Иерархическая природа истины показывает, что там, где можно подойти к объекту с линейкой, мы имеем срезы и сколы, с трудом сопоставимые и находящиеся в противоречивых связях. Но если мы переходим на уровень фундаментальных онтологических сущностей, каковой является пространство, структуры становятся принципиально неотделимыми от самого бытия свойствами. Та или иная структура объекта высвечивается при взаимодействии с обстоятельствами. Здесь нет плю-ральности, равноценности, напротив, фиксируется многомерность, «многоэтажность» объекта, где каждый этаж, как в проекции Меркатора, предполагает свой масштаб.
Если взять кантовское представление о пространстве как об априорном условии возможного опыта, мы получим стерильную сущность, стянутую на специфику антропологии трансцендентального субъекта. Однако трехмерность восприятия пространства, которое по Канту априорно, имеет явное влияние евклидовой геометрии и линейной перспективы, уводящей взгляд в бесконечность возможного опыта. Трехмерность пространства – особенность геоцентрического восприятия и понимания мира. Субъекта нет до опыта. Он возникает в ситуации опыта. Кантовское представление о трехмерном априорном пространстве несет в себе память исторических импликаций пространства геометров геоцентрического мира. Перенося структуры целостности с онтологии космоса на уровень антропологии трансцендентального субъекта, Кант, в духе своего времени, открывает для взгляда бесконечность, утверждая ценность бесконечного познания, что вполне соответствует просвещенческой парадигме. Но трансцендентальный субъект остается в геоцентрическом мире, мире трехмерных восприятий внешних представлений. Гелиоцентрическая система мира, возникшая и утвердившаяся в XVI– XVII вв., перенесла точку зрения познающего субъекта на Солнце, не поменяв специфику человеческих восприятий, поэтому представление о пространстве остается трехмерным. Однако к структурам целостности, которые теперь принадлежат субъекту, добавляются структуры бесконечности, что во многом опосредовано влиянием появления линейной перспективы, способной «стереть» горизонт. Влияние технических вещей, таких как camera-obscura и печатный станок Гуттенбер- га меняет мировоззренческие ориентиры, вводя бесконечность через расширение взгляда и неостановимое копирование. Структуры бесконечности начинают преобладать над структурами целостности, не устраняя их полностью, а подчиняя себе. Истина в любом случае связывается с целостностью, даже если эта целостность начинает дробиться до атомарных фактов (как в неопозитивизме) или меняться в результате технически организованных взаимодействий, когда возникают разные варианты одного и того же объекта, который одновременно присутствует в разных местах с разной степенью вероятности. Современные объекты собираются / конструируются под технически организованным взглядом, причем природа объектов может быть любой. Но в любой гносеологической ситуации, даже при включении в нее искусственного интеллекта, точкой итогового приема, в которой информация трансформируется в знание, является познающий субъект-человек. Мир «собирается» вокруг познающего сознания. Геоцентрическая система переходит на уровень антропного принципа.
Символическая структура геоцентрического мира
Освоение пространства – вопрос также символический, потому что за вещественным миром существует мир невещественный, интеллигибельный. Пространство представляет собой связь миров и времен [Сироткин 2021]. Связь между мирами просвечена через символы, точки перехода, места метаморфоз и преобразований. Символическая структура геоцентрического мира представлена в «Божественной комедии» Данте Алигьери. «Путешествие Данте не обходится без современных ему научных знаний, оно подчинено законам географии и астрономии, взятым в “синтетическом”, совмещенном виде» [Александров 1999, 186] и сконцентрированных в описаниях Вселенной Клавдия Птолемея.
У Данте в «Божественной комедии» есть место на самом «дне мира», достигнув которого путники, сам Данте и Вергилий, начинают восхождение вверх, к Раю. Дно – центральная часть Люцифера. Это место симметрии структур, где возможен переход из одной структуры в другую, но не механически, а с изменением природы вещи. Символ как единство разных природ – метафизической и материальной – предполагает совмещение структур смысла, геометрии и технологии. Механическое соответствие структур можно рассматривать как знак возможного перехода, но для осуществления самого перехода потребуется изменение направления (геометрия), переворачивание естества (технология) и трансформация природы (перерождение / воскрешение). Вергилий говорит Данте:
«Ты думал – мы, как прежде, – молвил он, – За средоточьем, там, где я вцепился
В руно червя, которым мир пронзен? Спускаясь вниз, ты там и находился;
Но я в той точке сделал поворот , Где гнет всех грузов отовсюду слился;
И над тобой теперь небесный свод, Обратный своду, что взнесен навеки Над сушей и под сенью чьих высот Угасла жизнь в безгрешном Человеке;
Тебя держащий каменный настил
Есть малый круг, обратный лик Джудекки» [Данте 1982, 182].
Есть версия, что Джудекка – остров, название которого происходит от слова судить (Zudega), суд. И переворачивание с восхождением возможно для того, кто может пройти суд , в отличие от того, кто «все так же воткнут, как и прежде был» [Данте 1982, 182] (здесь Данте имеет в виду вмерзшего Вельзевула).
Космос Данте – это космос Аристотеля-Птолемея с добавлением символического измерения или символической структуры. Символическое дает дополнительные ходы в пространстве и, следовательно, дополнительные переходы внутри одного мира. Павел Флоренский по этому поводу утверждает, что геоцентрическая система Птолемея, отраженная в «Божественной комедии» Данте, предполагает особое эллиптическое пространство, в котором возможны метаморфозы переходов / поворотов в зеркальные мнимости того же самого единого мира. Бытие едино при наличии множественных переплетенных структур. Платоновские идеальные сущности отражаются в материальных временных вещах; круговые движения космичес- ких сфер Аристотеля распрямляются в движениях к естественному месту вещей, сложенных совокупностями земных элементов; души человеческие во временном моменте смерти выворачиваются сквозь свои пространственные тела в иное измерение бытия, переходя в бессмертные структуры, теряя при этом протяженность. «Область мнимостей реальна, постижима и на языке Данте называется Эмпиреем. Все пространство мы можем представить себе двойным, составленным из действительных и из совпадающих с ними мнимых гауссовых координатных поверхностей, но переход от поверхности действительной к поверхности мнимой возможен только через разлом пространства и выворачивание тела через самого себя» [Флоренский 1922, 53]. Двойное пространство в данном контексте означает, что можно выделить в отношении одной плоскости область действительных сущностей, которые, проваливаясь в изнанку, дают кальку мнимости. Душа по смерти возвращается, по Платону, в мир Идей. В диалоге «Федр» [Платон 1993] Платон описывает, как души, несущиеся на колесницах, теряя управление возничего-разума, падают на землю и таким образом рождаются. Рождение – это падение души. По смерти происходит обратный процесс – воспарение, возвращение в надлунную сферу. Мир имеет иерархию природ и это отражено структурами двойного пространства.
Современные концепции плоских онтологий, используемые, например, в исследованиях науки и технологий (STS) Бруно Латура [Латур 2013], а также в новой онтологии Мануэля Деланда [Деланда 2017] или Грэма Хармана [Харман 2017], являются техническими, поскольку ставят на единую ступень разные сущности: людей, самолеты, информацию, легенды. Все совмещается в едином пространстве. Оно плоское, искривленное, но одномерное, визуальной моделью его является лента Мебиуса, что рассмотрено нами в работе «Техническая связь: инварианты, адаптации, прорывы» [Погорельская 2024б]. Возникновение нового знания и новых сущностей в моделях плоских онтологий предполагает поворот, происходящий как в представлениях исследователя, так и в точках бифуркации самоорганизующихся материальных систем, радикально меняющих свою историю под воз- действием внешних причин и внутренних накопленных состояний. Техническая модель плоских онтологий не включает в свои одномерные потоки божественную благодать: у мира нет лицевой и изнаночной части, того, что мы наблюдаем в системе геоцентрического мира. Геоцентрическое двойное пространство предполагает прохождение сущностей в иное измерение, а не совмещает их в одномерной плоскости.
Заключение
Освоение геоцентрического пространства находится под влиянием ценностных ориентаций и представлений о космосе, тем не менее имеет свои особенности. Эти особенности не только познавательного характера: они связаны с вопросами преодоления расстояний, с рассуждениями о местах нахождения, о направлениях движения. Освоение пространства – это искусство, techne, которое направлено на решение практических и символических задач. В статье описаны структуры геоцентрического пространства, инварианты-пути его постижения. Геометрические структуры, обнаруженные античными математиками, позволяют, согласно геометрическим законам, на основании размеров / расстояний одних предметов сделать вывод о величине и удаленности других. Геометрические структуры едины на Небе и Земле и потому поддерживают целостность мира. Практическое, пошаговое освоение земной и морской поверхностей предполагает появление особого рода записей – навигационных карт как структурированной основы местности. Ошибки в картах не обнаруживаются в теоретических моделях, здесь необходим коллективный опыт, постоянно подвергаемый фальсификации и са-моредактированию в реальной навигационной практике, требующей повторений и мастерства. Технологические структуры оседают в рецептах и инструкциях по изготовлению и использованию навигационных инструментов, таких как астролябия, квадрант, компас и др. Одновременно геоцентрическое пространство, будучи матрицей бытия, включено в переходы между жизнью и смертью, являя собой символическую структуру трансформаций и преображений.