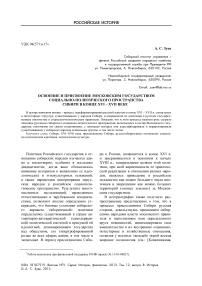Освоение и присвоение Московским государством социально-политического пространства Сибири в конце XVI – XVII веке
Автор: Зуев Андрей Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания автора – процесс переформатирования русской властью в конце XVI – XVII в. социальных и потестарных структур, существовавших у народов Сибири, в направлении их адаптации к русским государственным институтам и социально-политическим практикам. Показано, что в этом процессе важную роль сыграло описание русскими сибирского социально-политического пространства, включаемого в состав Московского государства, понятными им самим соционимами, с помощью которых они классифицировали и иерархизировали существовавшие у сибирских народов социальные группы, в том числе элиты.
Сибирь, присоединение сибири, xvi-xvii века, русско-аборигенные отношения, социальнополитическая адаптация, политическая культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147218944
IDR: 147218944 | УДК: 94(571)6179
Текст научной статьи Освоение и присвоение Московским государством социально-политического пространства Сибири в конце XVI – XVII веке
Политика Российского государства в отношении сибирских народов изучается давно и плодотворно, особенно в последнее двадцатилетие, когда явно обозначилось внимание историков к выявлению ее идеологических и этнокультурных оснований, а также параметров инкорпорации нерусских народов в российское социополи-тическое пространство. Результаты многочисленных исследований, проведенных отечественными и зарубежными специалистами, позволяют вполне определенно утверждать, что базовые установки сибирского варианта «аборигенной» политики определялись существовавшей в стране авторитарно-автократической (самодержавной) политической системой и присущей ей идеологией, доминированием государства над обществом, его гипертрофированной ролью во всех сферах жизни, в том числе в экономике. В период присоединения Сиби- ри к России, начавшегося в конце XVI в. и завершившегося в основном к началу XVIII в., генеральными целями этой политики, при всей вариативности ее практической реализации в отношении разных народов, являлись приведение в российское подданство как можно большего числа иноземцев и закрепление как можно больших территорий («новых землиц») за Московским государством.
В историографии также получило распространение представление о том, что в процессе присоединения Сибири русская сторона, довольствуясь признанием сибирскими народами власти московского правителя и выполнением ими определенного круга повинностей, минимизировала свое вмешательство в их внутренние социально-потестарные и хозяйственные отношения, оставляя у местных «вождей» порой весьма широкие полномочия (см.: [Коваляшкина,
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-01-00027).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 8: История © А. С. Зуев, 2013
2005. С. 51; Русские в Евразии…, 2008. С. 60–61; Каппелер, 2000. С. 33; Акимов, 2010. С. 293] и др.). И лишь позже, в XVIII в., она приступила к кардинальной перестройке сибирских этносоциумов, осуществляя их правовую, социальную, культурную и отчасти экономическую русификацию. Соглашаясь в целом с такой трактовкой, обратим, однако, внимание на то, что подчинение Московским государством сибирских иноземцев сопровождалось все же явно выраженным процессом переформатирования существовавших у них социальных и потес-тарных (у сибирских татар, возможно, политических) структур и отношений в направлении адаптации последних к русским государственным институтам и социальнополитическим практикам. Этот процесс, насколько нам известно, еще не оказывался в поле зрения исследователей, хотя он, несомненно, заслуживает пристального внимания, поскольку его анализ полезен для понимания политического дискурса московской власти, что в свою очередь позволит лучше раскрыть нюансы ее «аборигенной» политики в Сибири.
Расширяя свои владения от Урала к Тихому океану, русская власть столкнулась с проблемой освоения местного социальнополитического пространства, которое требовалось сделать своим и соответственно присвоить себе. Эта задача осложнялась тем, что сибирские народы весьма заметно различались по языку, хозяйственному укладу, социальной и властной организации. Наряду с народами запада и юга Сибири, которые знали систему господства-подчинения, выражавшуюся в данничестве и кыштымстве, имели государственные образования (сибирские татары), либо близкие к ним политические структуры (енисейские кыргызы), либо крупные клановые («родовые») объединения с относительно стабильной и стратифицированной властной элитой, были и народы севера и востока Сибири, чья социальная организация отличалась дисперсностью, а какие-либо объединения (в хозяйственных или чаще в военных целях) – аморфностью и временным характером, и у которых отсутствовали явно выраженные социальная стратификация и дифференциация и какие-либо управленческие институты, а предводители не обладали никакой принудительной властью над сородичами.
Упомянутый процесс социально-политического освоения начался задолго до разгрома Сибирского ханства и появления в Сибири на постоянной основе первых царских воевод. Уже в конце XV – начале XVI в. московский великий князь Иван III, затем, в середине XVI в., царь Иван IV стремились установить свою власть над зауральскими народами. Согласие ряда остяцких, вогульских и самоедских вождей платить дань дало основание великим князьям «присвоить» их земли себе. В титулатуре Ивана III с конца XV в. среди прочих его владений упоминалась Югорская земля («князь Югорский»). При Василии III к ней добавились две новые сибирские «землицы»: «Государь и великий князь… Обдор-ский, и Кондинский» [Пчелов, 2010. С. 4–5]. Тем самым, с точки зрения московских политиков, эти земли уже считались своими – московскими, и заодно иностранным правителям давалось понять, что они принадлежат московскому государю. Иван IV в 1556/57 г. уже называл некоторые зауральские территории – «Юсерскую (Югорскую) землю» и «Сорыкитцкие (?) земли» – своей «вотчиной» [Миллер, 1999. С. 324–325].
В 1555 г. в титулатуре московского государя появился новый элемент – «всея Сибирские земли и Северные страны повелитель» [Пчелов, 2010. С. 5]. В 1570 г. сибирская часть царского титула уже звучала так: «…великий князь… югорский… обдор-ский, кондийский и всее Сибирские земли… повелитель…» 1. Даже после того, как новый правитель Сибирского юрта (ханства) хан Кучум в 1571 г. окончательно разорвал даннические отношения и восстановил свой суверенитет, Иван IV продолжал рассматривать «Сибирь» как свое владение. Именно поэтому в 1574 г. он пожаловал Строгановым земли «на Тахчее и на Тоболе реке», «на Иртыше и на Обе и на иных реках» [Миллер, 1999. С. 332–334]. В конце 1570-х гг. на большой государственной печати появилось геральдическое обозначение Сибирской земли [Пчелов, 2009. С. 17].
После того как разгром Сибирского юрта стал свершившимся фактом, Москва по дипломатическим каналам известила иностранных правителей, что «сидят в Сибири государевы люди, и Сибирская земля вся, и Югра, и кондинской князь, и пелымской князь, и вогуличи и остяки, и по Оби по великой реке все люди государю добили челом и дань давать почали. И ныне те все земли с Сибирью государю послушны…» [Преображенский, 1972. С. 46]. Правда, полной уверенности в овладении новыми землями еще не было: в чине венчания на царство Федора Ивановича (30 июня 1584 г.) Сибирь вообще не упоминалась 2. Но эта неуверенность была недолгой. В 1586 г. в полной титулатуре того же царя Федора уже утверждалось, что он «…великий князь… Обдорский, Кондинский, и Обладатель всея Сибирские земли и великие реки Оби…» 3, а само «взятие Сибири» объяснялось уже тем, что «Сибирское царство искони вечная вотчина государей наших» со времен Ивана III [Преображенский, 1972. С. 49]. Эта же аргументация (ссылки на «исконность» владения Сибирью «рускими царями») звучит и в «жалованной грамоте» Федора Ивановича «сибирскому царю» Кучуму 1597 г. 4 В конце XVI – начале XVII в. постепенно, окончательно уже после Смуты, в полную царскую титулатуру включается титул «царь сибирский» [Пчелов, 2009. С. 14; Трепавлов, 2012. С. 69–71].
В русских дипломатических документах конца XVI в. Сибирь неизменно фигурировала как часть Московского государства. Таким образом русские цари объявили ее своим владением. В XVII в. новые присоединенные территории уже не вносились в титулатуру русских царей, поскольку изначально более политическое, нежели географическое понятие «Сибирь» (под которым подразумевались Сибирский юрт / Сибирское ханство) превратилось в исключительно географическое: Сибирью стали называть всю территорию от Урала до Тихого океана, подчиненную русской власти. И власть над всей этой территорией выражалась в титулах «царь Сибирский». Лишь ряд западносибирских земель, «присвоенных» еще к началу XVI в., по традиции выделялся отдельно: «князь… Югорский… государь и великий князь… Обдорской, Кондин-ской…» 5. В 1625 г. в царский герб была включена третья корона, символизировав- шая покоренное Сибирское «царство» [Пчелов, 2009. С. 15].
Идентификации огромного региона как принадлежащего московскому царю способствовали появление на его территории русского населения, русских поселений и православных культовых сооружений, а также инвентаризация его пространства, осуществлявшаяся русской стороной путем описания сибирских «землиц» и народов и составления карт-чертежей отдельных местностей и Сибири в целом [Кивельсон, 2012]. Построение опорного пункта и объя-сачивание (неважно, реальное или фиктивное) автоматически означало присвоение территории – ее превращение в «государеву вотчину». Еще не подчиненные «землицы», даже имевшие, с точки зрения русской стороны, своих «владельцев», назывались в русских документах «новыми», «иными», «разными», «дальними», «непослушными», «немирными», но не «чужими», т. е. они в принципе не рассматривались как объекты, на которые нельзя посягать. Скорее, наоборот, они a priori считались принадлежавшими царю. Казаки-землепроходцы даже использовали такое понятие, как «государева заочная вотчина» 6. И следует согласиться с Е. П. Коваляшкиной в том, что Сибирь воспринималась Русским государством как «продолжение собственных владений» [2005. С. 46]. Однако вряд ли это определялось тем, что московские цари якобы ощущали себя наследниками золотоордынских ханов, вследствии чего «в государственном понимании “покорение” Сибири сводилось к ее “возвращению” в подданство московского государя» [Шерстова, 2005. С. 64–65; 2012. С. 94]. Правильнее полагать, что «образование молодой Российской державы имело в идеологическом фундаменте образ и наследие не чуждого татарского “царст-ва”-поработителя, но погибшей единоверной Византии» [Трепавлов, 2007. С. 77], а продвижение в Сибирь рассматривалось и государством, и церковью, и землепроходцами как расширение пределов православного царства 7.
Номинальное присвоение Сибири русским монархом сопровождалось перераспределением реальных властных полномочий, навязыванием сибирским народам новых (русских) политических понятий и правовым оформлением этого процесса. В отношениях с сибирскими народами (но не только, конечно, с ними, а также и с собственно русскими подданными) царь явно и однозначно позиционировал себя как верховный правитель-собственник, чья власть санкционирована богом и выражает его волю. Иноземцы, как бы реально ни развивались отношения русских с ними, давали шерть – присягу на верность, и она давалась лично царю. Какие бы элементы договора ни содержали в себе шерть и «жалованное слово», объявлявшееся местными администраторами от имени царя, в понятиях русской стороны, да и в реальной жизни, они расставляли вполне определенные акценты. С момента их оглашения великий государь присваивал себе право жаловать (жизнь, земли, род занятий, «государево жалованье») и наказывать своих новых подданных, а последние обязывались давать ему ясак, быть «на веки неотступно в прямом ясачном холопстве», «служить и прямить во всем по своей шерти» и вообще делать все, что он от них потребует. В «жалованном слове» царь брал под свою защиту иноземцев, обещал им свою «милость» (которая, правда, совершенно не конкретизировалась), непокорных же и изменников устрашал «государевою грозою», «военною рукою» и «смертною казнью».
Для иноземцев верховной властной инстанцией во всех ее возможных ипостасях становился русский царь. Во всех документах, касавшихся публично-правовой сферы, четко оговаривалось, что любые официальные действия лиц, обличенных властью, начиная от воевод и кончая рядовыми служилыми людьми, должны были осуществляться исключительно от имени великого государя и в его интересах. Все «добрые» дела – жалованье, подарки, «питье» и «корм», льготы, меры по защите и поддержанию правопорядка и т. д. – декларировались и претворялись в жизнь как «государева милость», их источником был лично сам великий государь. В свою очередь, иноземцам растолковывали, что теперь они должны жить, трудиться, воевать, платить ясак на благо этого государя. Им разрешалось подавать челобитные с жалобами и разными просьбами, но опять же на государево имя. И при этом с подачи приказной администрации, служилых людей и толмачей они должны были однозначно идентифицировать себя как люди, находившиеся в полной власти «хозяина»: в обращениях к нему называться «сиротами» и «холопами».
«Вотчинный» принцип функционирования Московского государства и формировавшиеся этатистско-патерналистские представления, подкрепленные заботой о приращении «государевой прибыли», приводили к тому, что власть стремилась контролировать те сферы жизнедеятельности иноземцев, от которых напрямую зависели поступления ясака и прочих платежей в казну, а также выполнение разных повинностей. Воеводам и приказчикам наказывалось не допускать иноземцев к пьянству, кровной мести и «междуусобным боям», следить за тем, чтобы русские люди не опутывали их долгами и не обращали в холопов, не торговали с ними запрещенными товарами, а также в неположенных местах и не в указное время. Государство, охраняя земельные угодья иноземцев, заодно не позволяло им отчуждать земли. Иноземцы, принявшие христианство, обязаны были жить в среде православных, а ясачных стремились расписать по «волостям» и «улусам» и закрепить за определенными пунктами сдачи ясака. Таким образом, вводилось ограничение (по крайней мере, на законодательном уровне) правовой дееспособности иноземцев: ограничение в торговле, правах на землю, в местожительстве, в распоряжении своей личностью и т. д. И лишь те сферы, которые явно не определяли платежеспособность и политическую лояльность иноземцев, оставались вне интересов власти и продолжали регулироваться нормами обычного права.
Все сибирские земли, а равно и население по мере присоединения становились собственностью великого государя, включались в состав его «государства-вотчины» и сразу же превращались в объект эксплуатации, организованной центральной властью [Коваляшкина, 2005. С. 121]. Известный американский исследователь российской «национальной» политики Ю. Слёзкин утверждал, что для Сибири XVII в. «нет оснований полагать, что царь и его служилые люди проявляли какой-либо интерес к заявлению своих прав на земли и людей…»
[2008. С. 51]. Это, конечно, не так. «Жалованное слово» и шертование кардинально меняли права иноземцев на земли. Отныне их верховным собственником и распорядителем становился царь. Реальная ситуация с землевладением, правда, кардинально не менялась: за отдельными исключениями иноземцы продолжали жить и хозяйствовать на своих «исконных» и «породных» землях. Но теперь русская власть четко декларировала, что делать им это позволяет «государева милость», а право на владение землей увязано с «вечным холопством», уплатой ясака и верной службой (что в принципе было аналогично условиям, на которых владели землей собственно русские подданные – служба или тягло). С конца XVI в. отдельным представителям властной элиты, а позже целым «родовым» и «племенным» сообществам от имени царя стали даваться жалованные грамоты на владение «волость-ми и всякими угодьи», а к концу XVII в. иноземцы уже приучились к тому, чтобы закреплять за собой землю особыми актами – «данными» и «отводными», получаемыми из воеводских приказных изб.
Одновременно, в конце XVI – XVII в., шел упомянутый выше процесс переформатирования русской стороной социальных и потестарных структур, существовавших у народов Сибири. Этот процесс осуществлялся на двух уровнях. Первый – номинальный, когда казаки-землепроходцы, сибирские воеводы и московские дьяки вербализировали, категоризировали, классифицировали и репрезентировали информацию о сибирских этносоциумах в понятных себе самим лексемах. Второй – реальный, когда русская администрация конструировала из аборигенных сообществ, порой весьма аморфных, опять же понятные себе социальные и политические единицы и структуры.
Присоединение в конце XVI в. Западной Сибири не означало для русских знакомство с неизвестным миром. Сибирские татары, остяки и вогулы (ханты и манси), самоеды (ненцы) были уже давно включены в русскую картину мироустройства, пусть даже знания о них не вполне адекватно отражали действительность. Столкнувшись на данной территории с сопротивлением хана Кучума и некоторых остяцких и вогульских вождей, Москва применила тактику (или пыталась применить) первоначального «мягкого»
подчинения «сибирцев» путем установления с ними протекторатных и служебных отношений.
Первые были выстроены с рядом остяцких и вогульских политических объединений, которые в исторической литературе называются «княжествами», – Кодским, Обдорским, Ляпинским, Куноватским, Ка-зымским, Бардаковым и др. Они, как это хорошо показал С. В. Бахрушин [1955], сохранили полную внутреннюю автономию. И хотя, как уже говорилось, произошло кардинальное перераспределение властных полномочий и прав на землю (верховным правителем, собственником земли и получателем дани-ясака стал русский царь), тем не менее правители этих «княжеств», приняв русское подданство и получив от царя свои «родовые» земли в качестве пожалований, сохранили значительный объем власти в своих владениях. Их обязанность в отношении русского царя выражалась в основном в сборе ясака и поминок в «государеву» казну, несении военной службы и поддержании лояльности подвластного населения, а предводители обдорских остяков даже стали посредниками между русской властью и тундровыми самоедами. Поэтому такие отношения можно характеризовать не только как протекторатные 8, но и с определенной долей условности как сеньориально-вассальные [Там же. С. 125].
Правящую верхушку остяцких и вогульских «княжеств», «югорской самоеди» и селькупской «Пегой орды» русская власть стала титуловать князьями, признавая тем самым их высокий статус. Такая практика началась давно. Во второй половине XV – середине XVI в. в русских источниках упоминаются князья югорские, вогульские, ка-зымские, кодские, самоедские. Некоторые летописи позволяют предположить, что Ермак и его атаманы даже утверждали в «должностях» местных предводителей, признавших в их лице власть русского государя и давших шерть. Так, в Бузуновском летописце можно прочитать следующее: «По взятии города Сибири прииде к Ермаку во град остяцкой князь Боярга (Бояр. – А. З .) со многими дары и запасы и покаришася
Ермаку. Он же утверждаше их, пиршество им творяше, чтобы им жить под рукою государевою во всяком послушании, а служить во всякой верности, ясак платить и на руских людей дурно не мыслить» 9. Согласно Кунгурской летописи, пятидесятник Богдан Брязга во время похода по Оби, погромив ряд иноземческих городков, « постави (кодского. – А. З. ) князя болшего Алачея болшим яко богата суща и отпусти со своими честно» 10 (курсив наш. – А. З. ).
К началу присоединения Сибири использование титула «князь» было уже традиционным в русской практике титулования восточных правителей. Связано это было с одной из особенностей московского политического дискурса. Как известно, в русской социально-политической «номенклатуре» и в пределах русских земель до второй половины XV в. только те, кто являлся потомственными князьями (Рюриковичами и Гедиминовичами), имели право на политическую (и государственную) власть, соединенную в значительной мере с собственностью на землю (княжества). В XVI в. ситуация принципиально изменилась: княжества в пределах Московского государства исчезли, правитель Руси стал царем, князья потеряли самостоятельную политическую власть, а во властной иерархии наследственная «титуль-ность» была заменена служилыми чинами. Однако политический лексикон не поспевал за политической практикой. Московским политикам для обозначения правителей восточных народов пришлось использовать лишь те понятные русским людям титулы, которые имелись в этом лексиконе и уже были опробованы на азиатском направлении: царь, царевич и князь.
К концу XVI в. князьями звали тех самостоятельных, полусамостоятельных и зависимых правителей (беков / бегов / биев) кочевых орд, которые не являлись потомками Чингисхана. Чигисидов же, бывших самостоятельными правителями (ханами), именовали царями, а тех из них, кто никогда не нес бремя самовластного правления, – царевичами. Известно, в частности, что правители Сибирского юрта из династии Тай-бугидов неизменно русской стороной титуловались князьями, а хан Кучум, даже потеряв престол, – царем. Это не означает, конечно, что русские не знали собственно тюркских высших титулов (хан, салтан, бек), но в официальном делопроизводстве и законодательстве они употреблялись очень редко.
Вступив в постоянные контакты с остяцкими (хантыйскими), вогульскими (мансийскими), селькупскими и самоедскими (ненецкими) «вождями», русские, не имея еще должного представления об их реальной власти над «сородичами» и вариантах ее перехода от одного лица к другому (по наследству или другим способом), посчитали их вполне полновластными правителями крупных политических объединений, почему и стали титуловать князьями, выдавая даже некоторым из них жалованные грамоты, утверждавшие княжеское достоинство. Однако, что важно отметить, этнотеррито-риальные объединения, входившие в юрисдикцию таких князей, никогда официально не именовались княжествами.
Служебный вариант отношений был выстроен с основным и самым сильным в Западной Сибири противником – татарами. У них русская власть не сохранила какие-либо политические образования, которые существовали в период Сибирского юрта 11. Более того, вся правящая верхушка из числа чингисидов либо погибла, либо была вывезена на «Русь» (где поверстана в службу и пожалована землями), либо оказалась вне пределов Сибири («бродячие царевичи» – потомки Кучума). Прочие же представители военно-политической элиты бывшего Сибирского юрта (султаны, беки, мурзы, есаулы) почти поголовно были зачислены в русскую службу с сохранением земельных владений (юртов), зависимых людей и освобождением от уплаты ясака. Из них в Тобольске, Тюмени и Таре были сформированы подразделения юртовских служилых татар. Некоторые из последних в конце XVI – начале XVII в. назывались в русских документах князьями, мурзами, тарханами и «лучшими людьми» 12.
Для обозначения представителей потес-тарной элиты остяков и вогулов, управлявших общинами или их небольшими объединениями, но имевших более низкий статус и меньше власти, чем князья, и попавших под ясачное обложение, стала использоваться их собственная «номенклатура» как в оригинальном варианте – мурзы, есаулы, башлыки и др., так и в переводе на русский язык – сотники, десятники 13. Такие же «звания» сохранялись и у представителей ясачной татарской знати. У них же в конце XVI – начале XVII в. встречались также и князья (см., например: [Миллер, 2000. С. 177, 221, 241]).
Для совокупного обозначения всех этих властвующих лиц, за исключением князей, использовалось понятие «лучшие люди» (варианты: «лучшие мужики», «лучший человек / мужик»), которое применительно к населению Югры встречалось уже в конце XV в. «Лучшие люди» выделялись также у селькупов и самоедов. Правда, в русских документах мурзы и сотники то причислялись к категории лучших людей («мурзы и сотники лутчие люди»), то выделялись отдельно («сотники и лутчие люди», «мурзы и лутчие люди»). Рядовая же масса аборигенов стала зваться «черными» или «улусными» людьми / мужиками (среди них по имущественному принципу могли выделять «добрые» и «худые» «людишки»), а разные категории людей, не обладавших полной правовой дееспособностью, – холопами, захребетниками, вскормленниками, «живущими подле», т. е. словами, уже бывшими в русской социальной лексике, в том числе и заимствованными в свое время от золотоор-дынцев.
Таким образом, русская власть уже с начала присоединения Сибири ввела для местных народов понятную себе самой социальную градацию, которая не вполне отражала реалии социальных и потестарно-политических отношений в аборигенных сообществах, зато была весьма проста, бу- дучи представлена всего четырьмя основными стратами – правители (князья) разной степени самостоятельности, лучшие люди (включавшие местную «знать» и управленцев разного уровня, если таковые были), улусные люди и холопы (к последним, как правило, относили всех зависимых людей).
Особая ситуация сложилась у служилых татар, среди которых выделялись князья, мурзы и «лучшие люди», но главной для них становилась стратификация уже не по родовитости и прежде бывшим управленческим функциям, а по чинам, аналогичным чинам русских служилых людей – головы, сотники, пятидесятники и т. д. Использование же местной «оригинальной» титулатуры и «номенклатуры», в том числе уже знакомой русским из общения с тюрками и монголами, объясняется отсутствием в русском языке слов, которыми можно было бы адекватно идентифицировать и классифицировать лиц, имевших определенные позиции и управленческие функции в иноземческой властной иерархии.
Выход русских землепроходцев в начале XVII в. в верховья Оби и на Енисей, а затем их дальнейшее продвижение на восток к Тихому океану ознаменовались встречами с ранее неизвестными народами, которые по своему образу жизни заметно отличались не только от русских, но и нередко друг от друга. Вместе с тем стали наблюдаться заметные новации в подходах русской власти к осмыслению и конструированию политического и социального пространства новых «землиц».
В первую очередь следует указать на то, что официальная документация XVII в. демонстрирует изменение номинации высшей потестарной элиты аборигенных сообществ 14. Уже с конца XVI в. в отношении ее наряду с титулом «князь» начала использоваться его уничижительная форма «князек / кня- зец» 15, которая вскоре стала общеупотребительной по всей Сибири. Это, правда, не означало полного исчезновения формы «князь». Так, в первой трети XVII в. ряд местных вождей в Западной Сибири, причем нередко в одних и тех же документах, титуловался то князьями, то князьками. Форма «князь» встречалась здесь, но уже крайне редко и лишь в отношении отдельных лиц также и во второй половине XVII и даже в начале XVIII в. В середине XVII в. вариации титулования (князь / князец) – и опять же нередко в одних и тех же документах – отмечены в отношении одних и тех же даурских, дючерских и некоторых тунгусских вождей в Восточном Забайкалье и Приамурье. Но в целом можно говорить о том, что на протяжении первой половины XVII в. применительно к титулованию вождей сибирских народов форма «князек / князец» вытеснила форму «князь» (о редких исключениях см. ниже). При этом важно отметить, что в отличие от Западной Сибири в Восточной Сибири вплоть до Чукотки и Камчатки титул «князец» сразу же стал применяться русскими землепроходцами и администраторами для номинации главных предводителей этнотерриториальных объединений, причем разного таксономического уровня и уже без учета их реальных властных полномочий и реальной военной силы. Даже главы крупных военно-политических образований (у енисейских кыргызов) и «родовых» объединений (у предбайкальских бурят, якутов и части тунгусов) с момента первого знакомства определялись как княз-цы, а не князья 16. Оригинальностью отли- чалась ситуация в середине XVII в. в Забайкалье: в отношении местных «братцких людей» нам не удалось выявить в документах каких-либо титулов или званий. Судя по отпискам и показаниям землепроходцев, которые вообще очень редко упоминали забайкальских «братов», последние воспринимались русскими, по крайней мере, до начала 1660-х гг., как «улусные мужики» «мунгальских владельцев».
В Восточной Сибири, а также на крайнем севере Западной Сибири в XVII в. проявилась еще одна новация. Выделяя по-прежнему в составе этносоциумов упомянутые выше четыре социальные страты 17, русские уже, как правило, не фиксировали внутри «лучших людей» какие-либо особые «знатные» или «должностные» группы. Такой подход отражал как реальную ситуацию (отсутствие таких групп у большинства местных народов и соответственно отсутствие в их языках иерархизированных номинаций), так и, по нашему мнению, нежелание русской стороны фиксировать эти группы, если они реально существовали (у енисейских кыргызов и бурят).
Наблюдается и нараставшая к концу XVII в. амбивалентность в подходах русской власти к статусу сибирских князцов и «лучших людей». С одной стороны, ее представители на местах на протяжении всего XVII в. четко обозначали князцами тех, кто таковыми, по их мнению, являлся. Князцы явно фиксировались как особая социальная группа: «князцы и лутчие люди», «князцы и ясачные люди», «князцы и их люди / улусные люди», «князцы, и ясоулы, и ясачные люди», «князцы и мурзы и тотаровя» и т. д. И далеко не каждого предводителя какого-либо семейного клана или их объединений редка в начале XVII в. титуловали вождей телеутов [Миллер, 1999. С. 417; 2000. С. 373]. Особо заметим, что форма «князь» ни разу не встретилась нам в документах в отношении бурят, якутов, юкагиров, коряков и чукчей.
русские называли князцом. Об этом определенно позволяют говорить материалы учета сбора ясака, согласно которым не во всех ясачных «волостях» и «улусах», представлявших разноформатные объединения, имелись князцы. Ясачные книги также показывают, что князцами титуловались только реальные главы, а их родственники, даже ближайшие, если не были «самовластными» правителями, титулов не имели, а идентифицировались по родственным связям с князцами: «князцов дети», «князцы и их братья, и племянники» и т. д. Среди князцов русские могли также выстраивать градацию в соответствии с их реальной статусной ролью и количеством «подданных», выделяя «лутчих», «самых лутчих», «больших княз-цев». Правда, то и другое определялось русскими в соответствии с их собственным видением ситуации.
В огромном массиве сохранившихся делопроизводственных документов, равно как и в законодательных актах невозможно обнаружить каких-либо объяснений принципов титулования высшей аборигенной потестарной элиты. Однако вряд ли мы ошибемся, если станем утверждать, что сначала землепроходцы, затем местные администраторы иерархизировали «родовых» и «племенных» вождей по объему их реальной власти над сородичами, причисляя одних к князцам, других (основную массу) – к «лучшим людям». Правда, эта иерархизация основывалась на сравнении статусного положения князцов, равно как и «лучших людей», с находившимися в их ведении «улусными людьми», а не на сравнении с князцами и «лучшими людьми» других народов. В результате князцы и «лучшие люди» разных народов заметно отличались друг от друга по своему реальному статусу и реальным функциям.
В практических действиях, направленных на «приобретение» «новых землиц» и их закрепление под властью великого государя, русская администрация стремилась активно взаимодействовать с князцами и «лучшими людьми», опираться на них и использовать в своих целях, признавая и подчеркивая их властный статус. Именно они в первую очередь приносили шерть, приглашались для заслушивания «государева жалованного слова» и получали подарки, с их помощью воеводы и приказчики осуществляли суд над иноземцами, разрешали кон- фликтные ситуации и поддерживали отношения господства-подчинения. Отдельные представители элиты не только лично освобождались от уплаты ясака, но и получали право собирать его со своих «сородичей». Почти повсеместно «вожди» привлекались к сбору ясака, в том числе в целях контроля за действиями ясачных сборщиков. А к концу XVII в. стремление русской власти передать ясачный сбор в руки «родоплеменной» верхушки, которая бы сама доставляла ясак в города и остроги, становится уже явно выраженным и охватывает многие районы, считавшиеся закрепившимися в русском подданстве.
С другой стороны, с середины XVII в. русская власть все реже употребляет титул «князец» применительно к вождям сибирских народов. Особенно это заметно, если судить по материалам ясачных книг, в северо-восточных районах Сибири. Здесь же, но уже в XVIII в., для официального наименования глав якутских улусов вводится якутский же соционим «тойон», который распространяется также на ительменов, чукчей и часть коряков. Схожий процесс, по нашим данным, с 1660-х гг., идет и в южных районах Сибири: в отношении князцов и «лучших людей» у бурят, некоторых групп забайкальских тунгусов и енисейских кыр-гызов русские начинают употреблять титу-латуру, заимствованную у монголов: тайши, зайсаны, шуленги, есаулы. Причем в этом вопросе наблюдалась вариативность. Если при номинации бурятских «вождей» титул «князец» к началу XVIII в. почти перестал употребляться [Залкинд, 1958. С. 253–255], то при номинации кыргызских «вождей» он стал сочетаться с монгольскими титулами [Бутанаев, 2007. С. 258].
На протяжении XVII в. титул «князец» теряет свою «титульность» и приобретает у ясачных людей, по сути, «должностное» значение. «Князьки / князцы», а равно «мурзы», «есаулы», «сотники» и прочие «ино-земческие» обозначения власть имущих становятся в русском делопроизводстве наименованием тех лиц аборигенных сообществ, которым русская власть вручала исполнение определенных должностных обязанностей, т. е. с русской точки зрения все эти «титулы» и «звания» превращаются в наименование должностей «аборигенного» звена местного управления. Следует также отметить тот факт, что уже со второй трети
XVII в. князцы, продолжая, как говорилось выше, выделяться особо, все чаще в разного рода документах квалифицируются как группа, относимая к категории «лучших людей», а то и просто называются «мужиками». «Мужиками» и просто по имени нередко обозначают и «лутчих людей». И, наконец, пожалуй, самое важное – русская администрация начала практиковать назначения в должности князцов и «лучших людей», причем не всегда учитывая принцип наследственности, хотя в целом он все же сохранялся (там, где был).
За редким исключением (мурзы Кульма-метевы и Кутумовы) теряют титулы и «должностные» звания служилые татары, которые к концу XVII в. по своему статусу полностью уравниваются с русскими служилыми людьми. В Западной Сибири лишь несколько потомков остяцких, вогульских и самоедских князей конца XVI в. сохранили за собой княжеские титулы, официально признанные русской властью: князья Кон-динские, Пелымские, Алачевы 18, Обдорские (с начала XVIII в. – Тайшины). В Восточной Сибири титул князя с 1685 г. закрепился за некоторыми из потомков одного из предводителей забайкальских «конных» тунгусов – Гантимура. В 1709 г. титул князя был пожалован, но лишь индивидуально якутскому князцу Ф. М. Отконову. Однако все вышеназванные князья (исключая Обдорских) были крещены, поверстаны в служилые люди – в чины дворян и детей боярских, а многие из них к концу XVII в. реально уже были отстранены от управления соплеменниками, переселившись (или будучи переселены) в русские города и остроги.
Вряд ли можно сомневаться, что явно наблюдаемая на протяжении XVII в., при всех вариациях и отклонениях, тенденция принижения русской властью номинального статуса высшей аборигенной элиты (князья → князцы → лучшие люди → ясачные мужики) стала следствием расширения русской стороной своих знаний о социаль-но-потестарном устройстве аборигенных сообществ, в том числе о степени реальной власти и реальных полномочиях их предводителей. Из донесений с мест становилось понятно, что власть князцов и прочих «лучших людей» у большинства сибирских этносоциумов не имела наследственного характера, зачастую являлась ситуативной и базировалась преимущественно на их личном авторитете и богатстве. Можно также предположить, что свою роль сыграло и нежелание центральной власти увеличивать в стране численность князей из числа иноземцев. В Московской Руси XVII в. их и без Сибири было очень много, поскольку князьями официально признавались многочисленные поволжские татарские мурзы и мордовские «панки», принявшие православие [Карнович, 1886. С. 168, 174].
С пополнением информации об устройстве аборигенных сообществ связано и изменение в политических отношениях с ними. В отличие от Западной Сибири, подчиненной к концу XVI в., во всей остальной Сибири русская власть в своих действиях отказалась от применения протекторатных и служебных связей. Территориальным рубежом стало Верхнее Приобье и южные районы Енисейского края. Здесь мы еще видим зачисление в службу части «татар» (еуш-тинцев, чатов, тюркоязычных алтайцев, аринцев и качинцев) и «белых колмаков» – телеутов и формирование из них особых воинских подразделений в составе томского, кузнецкого и красноярского гарнизонов. Во взаимодействии с телеутами и кыргыза-ми прослеживаются и попытки Москвы установить над ними протекторат. Но здесь же русская сторона категорически отказывается от предоставления кыргызам особого статуса по примеру служилых татар, хотя кыргызские князцы и предлагали такой вариант взаимодействия.
В отношении же народов Восточной Сибири русская власть полностью исключает сохранение у них каких-либо автономных политических объединений (наподобие остяцких и вогульских «княжеств») или предоставления служилого статуса (без уплаты ясака) каким-либо их социальным или этническим группам. Она требует и реализует или, по крайней мере, стремится реализовать полное и безусловное подчинение всех «вновь приисканных иноземцев», несмотря на то, что некоторые из них – кыргызы, буряты и якуты – по своему военному потенциалу превосходили остяков и вогулов и оказали русским более серьезное сопротивление, чем последние. Это же стремление распространяется на западносибирские «княжества», которые лишаются автономии и к середине XVII в. перекраиваются русской властью в ясачные волости. К концу XVII в. сохранить фактическую автономию во внутренних делах смогли лишь куноват-ские и обдорские князцы в силу труднодос-тупности их владений для русской администрации.
Процесс освоения и присвоения Московским государством социально-политического пространства Сибири и изменения им аборигенных социальных и потестар-ных структур не ограничивался, конечно, обозначенными выше параметрами. В частности, не рассмотренными остались административно-территориальное структурирование 19 и практика судопроизводства, осуществлявшиеся русской властью в Сибири. Тем не менее вышеизложенное позволяет утверждать, что уже в конце XVI – XVII в., в ходе подчинения сибирских территорий и народов, происходило кардинальное переформатирование политических и социальных отношений. И хотя внутренняя социально-потестарная организация местных этносоциумов оставалась, за редким исключением (сибирские татары), без изменений, основные властные функции перешли в руки русского монарха и его агентов на местах. Русская власть, взяв под свой контроль те сферы жизнедеятельности сибирских народов, которые обеспечивали их лояльность и выполнение роли налогоплательщиков, начала регулировать широкий спектр отношений внутри аборигенных сообществ. Пожалуй, наиболее ярко это выразилось в быстро распространившейся практике обращения рядовых улусных и зависимых людей напрямую (минуя «родоначальников») к местной русской администрации по самым разнообразным поводам. И даже сами князцы, случалось, «били челом» воеводам и приказчикам на подвластных им сородичей.
Переформатирование осуществлялось и путем описания русскими сибирского социально-политического пространства, включаемого в состав Московского государства, понятными им самим соционимами, с помощью которых они классифицировали и иерархизировали существовавшие у сибир- ских народов социальные группы, в том числе элиты 20. Важно подчеркнуть, что в этом нарративе русские землепроходцы и управленцы использовали преимущественно русскую (князь / князец, «лучшие люди») или хорошо им известную «иноземческую» («улусные люди») лексику, почти не принимая во внимание номинацию, используемую аборигенами, хотя таковая, несомненно, у них имелась 21. Да и сами аборигены быстро освоили и стали применять русскую социальную лексику. Это способствовало не только адаптированию их социальной «номенклатуры» к русскому социально-политическому дискурсу, но и ее унификации в пределах Сибири. Правда, со второй половины XVII в. в русском делопроизводстве применительно к некоторым сибирским народам наблюдается дерусификация социальной «номенклатуры», выяснение причин которой требует отдельного исследования.
Наконец, в процессе изменения аборигенных социальных и потестарных структур, осуществляемого русской властью, можно выделить два последовательных варианта: первый, условно назовем его западносибирский, – протекторатный и служебный, характеризовавшийся постепенной интеграцией, и второй – восточносибирский, в котором протекторатные и служебные отношения или отсутствовали вовсе, или присутствовали фрагментарно, неявно выраженно. Оба варианта, один медленнее, другой быстрее, способствовали сначала номинальному, затем реальному освоению / присвоению социально-политических институтов, существовавших у сибирских народов.
Список литературы Освоение и присвоение Московским государством социально-политического пространства Сибири в конце XVI – XVII веке
- Акимов Ю. Г. Северная Америка и Сибирь в конце XVI -середине XVIII в.: очерк сравнительной истории колонизаций. СПб., 2010. 372 с.
- Бахрушин С. В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI-XVII вв.//Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955. Т. 3, ч. 2. С. 86-152.
- Бутанаев В. Я. История вхождения Хакасии (Хонгорая) в состав России. Абакан, 2007. 296 с.
- Гальперин Ч. Вымышленное родство. Московия не была наследницей Золотой Орды//Родина. 2003. № 12. С. 68
- Демин М. А. Коренные народы Сибири в ранней русской историографии: Учеб. пособие. СПб.; Барнаул, 1995. 197 с.
- Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии к России. УланУдэ, 1958. 318 с.
- Исхаков Д. М. Введение в историю Сибирского ханства. Очерки. Казань, 2006. 196 с.
- Каппелер А. Россия -многонациональная империя. Возникновение. История. Распад: Пер. с нем. М., 2000. 344 с.
- Карнович Е. П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. СПб., 1886. 249 с.
- Кивельсон В. Картография царства: земля и ее значение в России XVII в.: Пер. с англ. М., 2012. 360 с.
- Коваляшкина Е. П. «Инородческий вопрос» в Сибири: концепции государственной политики и областническая мысль. Томск, 2005. 326 с.
- Конев А. Ю. Термин «волость» в административной политике и практике управления населением Западной Сибири в конце XVI -начале XVIII в.//Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: Сб. науч. тр.: В 3 ч. Омск, 2012. Ч. 1. С. 301-307.
- Летописи сибирские. Новосибирск, 1991. 272 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 1999. Т. 1. 630 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 2000. Т. 2. 796 с.
- Перевалова Е. В. Северные ханты: этническая история. Екатеринбург, 2004. 414 с.
- Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI -начале XVIII в. М., 1972. 392 с.
- Пчелов Е. В. Символы Сибирского царства//Изв. Урал. гос. ун-та. 2009. № 4 (66). С. 13-22.
- Пчелов Е. В. Территориальный титул российских государей: структура и принципы формирования//Российская история. 2010. № 1. С. 3-28.
- Русские в Евразии XVII-XIX вв. Миграции и социокультурная адаптация в иноэтничной среде. Тула, 2008. 480 с.
- Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера: Пер. с англ. М., 2008. 512 с.
- Трепавлов В. В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV-XVIII вв. М., 2007. 255 с.
- Трепавлов В. В. Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М., 2012. 231 с.
- Тычинских З. А. К вопросу об административно-политическом и территориальном устройстве сибирских татар в XVI-XVIII вв.//Средневековые тюрко-татарские государства: Сб. ст. Казань, 2009. Вып. 1. С. 172-182.
- Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII -начала XX в. Новосибирск, 2005. 312 с.
- Шерстова Л. И. Аборигенная политика Московского царства в Сибири: проблема синтеза социально-политических институтов в XVII в.//Вестн. Томск. гос. ун-та. 2012. № 365. С. 93-98.