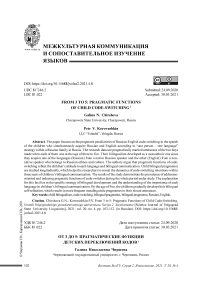От 3 до 5: прагматические функции детских переключений кодов
Автор: Чиршева Г.Н., Коровушкин П.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена описанию прагматических особенностей переключений кодов в речи детей, одновременно осваивающих русский и английский языки по принципу «один человек – один язык» в русскоязычной семье в России. Материалом послужили высказывания двух мальчиков в возрасте от трех до пяти лет, чей билингвизм развивался как моноэтнический, поскольку один язык (русский) они усваивали от его носителя, а второй (английский) – от неносителя этого языка, представителя русскоязычного этноса. В работе показано, что прагматические функции кодовых переключений отражают особенности развития билингвизма детей, связанные с отношением к языкам и билингвальной коммуникации. Прагматические функции в детской билингвальной речи (билингвальные прагмемы) изучены в лонгитюдном аспекте, что позволило проследить динамику изменения интенций при переходе с одного языка на другой в коммуникации детей на протяжении трех лет. Результаты исследования продемонстрировали, что наиболее значимыми прагматическими функциями переключений кодов в речи детей являются адресатная и воздействующая, которые отражают специфику освоения языков и роль каждого языка в билингвальной коммуникации. К пятилетнему возрасту детей в их речи усиливается значимость металингвистической функции переключений кодов.
Детский билингвизм, переключение кодов, билингвальная прагматика, билингвальная прагмема, русский язык, английский язык.
Короткий адрес: https://sciup.org/149138090
IDR: 149138090 | УДК: 81’246.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.4.8
Текст научной статьи От 3 до 5: прагматические функции детских переключений кодов
DOI:
Переключения кодов представляют собой использование единиц одного языка в высказываниях на другом языке. Отношение ученых к этому феномену в последние десятилетия становится не столь однозначным, как прежде, когда их рассматривали в качестве негативного явления в речи билингвов, особенно детей. В современных исследованиях с кодовыми переключениями соотносят показатели развития лингвистической компетенции ребенка, его умение контролировать выбор языка в зависимости от параметров коммуникативной ситуации [Arnaus Gil, Jiménez Gaspar, Müller, 2018; Yow, Tan, Flynn, 2018; Kuzyk, Friend, Severdija, 2020]. Переключения кодов в речи детей-билингвов связывают с реализацией их прагматических функций в коммуникации с разноязычными собеседниками [Чиршева, Коровушкин, Мушникова, 2018].
Некоторые исследователи устанавливают взаимозависимость между продуктивным и рецептивным билингвизмом, с одной стороны, и спецификой выбора языка в диалогическом общении, с другой. Так, К.М. Рибот и Э. Хофф в статье о переключениях кодов у 115 детей-билингвов в США показали, что дети, у которых уровень владения английским языком был выше, чем испанским, гораздо чаще в своих ответах на испанские реплики взрослых использовали английский язык [Ribot, Hoff, 2014].
Изучение детских переключений кодов позволяет также выявить взаимоотношение между типологическими характеристиками языков, которые осваивает ребенок, и их доминантностью, устанавливающей монолинг-вальный или билингвальный модус общения, выбираемый ребенком для реализации его коммуникативных интенций [Poeste, Müller, Arnaus, 2019].
В настоящее время ранний билингвизм признается такой же нормой, как и монолингвизм, поэтому исследования кодовых переключений проводятся и в тех случаях, когда у детей есть нарушения речевого развития. Авторы одного из них на материале англо-испанских билингвальных детей с отклонениями в речевом развитии выяснили, что наиболее заметное влияние на частоту переключений оказывала доминантность языка: разговаривая на недоминантном языке, они чаще переключались на свой доминантный язык [Gutiérrez-Clellen, Simón-Cereijido, Leone, 2009].
Параметры коммуникации, которые влияют на активизацию переключений кодов в общении ребенка, во многом определяются тем, по какому принципу билингвального воспитания ребенок осваивает два языка. Если выбран принцип «один человек – один язык», когда каждый из взрослых разговаривает с ребенком только на одном языке, ребенок прежде всего реагирует на смену собеседников, независимо от того, где и когда осуществляется коммуникация – дома или за его пределами.
Наибольшее влияние на одновременную активизацию двух языков или частую смену активизации этих языков оказывают такие ситуации, в которых ребенок общается сразу с несколькими разноязычными собеседниками. Детям приходится выбирать оптимальные стратегии общения: дублировать свои высказывания на двух языках (в виде автоперевода или автопересказа), использовать только один язык, чтобы не повторять сказанное, или чередовать языки в разных структурных вариациях (выбор кода, межфразовые или внутри-фразовые переключения).
С трех лет дети понимают, что говорят на двух языках, и знают, как они называются (в более раннем возрасте – «папин» и «мамин» языки). Разнообразие в использовании языков побуждает детей задавать метаком-муникативные и металингвистические вопросы и вырабатывать свои стратегии билинг-вального поведения. Например, профессор из Австралии Дж. Сондерс – носитель английского языка, воспитывавший троих своих детей, говоря с ними по-немецки, отмечал, что его старший сын вел себя так: когда ему нужно было рассказывать что-то одновременно папе и маме, он поворачивался к папе и говорил по-немецки, а если забывал какие-то немецкие слова, поворачивался к маме и продолжал рассказ по-английски [Saunders, 1988, р. 57–58, 182–186].
Переключения кодов в присутствии разноязычных собеседников вызываются разным отношением детей к языкам, присутствием посторонних слушателей, общением за пределами дома (даже если взрослые не меняют язык общения с ребенком) и предметом разговора.
Родители – исследователи речи своих детей обычно могут сказать, с какой целью ребенок чередует языки. Однако когда переключения кодов обусловливаются комплексом причин и интенций ребенка, объяснения мо- гут быть вариативными. Сами дети в возрасте до 5 лет чаще всего объяснить прагматику своих переключений не могут, а если могут, то их объяснения нужно дополнительно интерпретировать с учетом всех параметров коммуникативной ситуации.
Большинство переключений кодов в речи билингвов до трех лет обусловливается лакунами в их билингвальном словаре [Gergely, 1997; Lanvers, 2001] и особенностями инпута [Nicoladis, Secco, 2000; Comeau, Genesee, Lapaquette, 2003], обычно несбалансированного. С трех лет, когда большинство детей уже дифференцировали свои языки, они способны делать прагматически оправданный выбор единиц двух языков [Cantone, 2007; Montanari, Ochoa, Subrahmanyam, 2019].
Прагматические функции переключений кодов в речи детей, одновременно усваивавших русский и английский языки в России, уже описаны нами. Их перечень включает: адре-сатную, эмоциональную, эзотерическую, предметно-тематическую, фатическую, металингвистическую, декоративную, юмористическую, цитатную функции, а также функции самоидентификации, воздействия и экономии речевых усилий [Чиршева, 2000, с. 73–75, 97– 101; 2012, с. 214–222].
В концепциях исследователей прагматического акта его называют прагмемой (pragmeme). Сопоставляя специфику речевого акта и прагматического акта, Дж. Мей указывает, что первый связан с языком и правилами его использования, а второй – с коммуникативной ситуацией. Речевой акт можно анализировать вне ситуации общения, а прагматический – только с учетом конкретной коммуникативной ситуации [Mey, 2001, p. 222– 228]. Эту идею он и ряд других исследователей в области прагматики развивают как для одноязычной, так и для межкультурной коммуникации [Mey, 2010; Capone, 2005; 2018; 2020; Kecskes, 2010]. Плодотворной эта концепция оказалась и для описания билингваль-ных ситуаций [Ige, 2010; Piirainen-Marsh, 2010].
Опираясь на описание прагмемы в работах Дж. Мея и других лингвистов, можно ввести такое определение билингвальной прагмемы: это прагматический акт, в котором происходит реализация определенной прагматической функции в процессе взаимо- действия двух языков в виде переключений или выбора кодов.
Несмотря на имеющиеся достижения в разработке проблем детского билингвизма, прагматика ранних детских кодовых переключений в лонгитюдном аспекте пока изучена недостаточно детально. В отечественном языкознании проблемы развития прагматических особенностей детской билингвальной речи при одновременном освоении двух языков почти не затрагивались, поэтому исследование, результаты которого представлены в статье, обладает новизной и значимостью для возрастной билингвологии.
Цель работы – описать динамику детских билингвальных прагмем и установить их взаимосвязь с развитием раннего билингвизма.
В качестве гипотезы выдвигается следующее предположение: при одновременном освоении двух языков в семье применение принципа «один человек – один язык» способствует ранней активизации адресатной и воздействующей функций кодовых переключений, что отражает понимание ребенком важности каждого языка для реализации его интенций в двуязычной коммуникации.
Материал и методы исследования
Материалом для данного исследования послужили смешанные высказывания двух детей (братьев Миши и Саши, первый старше второго на два года), зафиксированные в периоды, когда каждому из них было от трех до пяти лет. Они с рождения осваивают русский и английский языки по принципу «один человек – один язык»: мама и ее родственники разговаривают с детьми по-русски, то есть на родном языке, а папа и его родители общаются с ними по-английски, на неродном языке.
По способу усвоения двух языков это естественный билингвизм, так как дети осваивали оба языка в ходе естественной коммуникации, без специального обучения, по крайней мере в течение первых лет их жизни. По этнолингвистическому критерию такой билингвизм является моноэтническим и мо-нокультуральным, поскольку формируется в семье, где представлен только один этнос и одна культура (в отличие от биэтнических семей, где у детей формируется биэтничес- кий и бикультуральный билингвизм) [Чирше-ва, 2000, с. 20–21].
Речь наблюдаемых детей фиксировалась с помощью видеозаписей (в течение 1–2 часов дважды в месяц) и в дневниках родителей. Из этих записей извлекались билингвальные высказывания, которые анализировались с учетом коммуникативного контекста.
Не все билингвальные прагмемы в речи маленьких детей можно интерпретировать однозначно по ряду причин. Во-первых, сами дети не всегда понимают и не способны объяснить, для чего они переключаются с языка на язык. Во-вторых, взрослым, которые хотят понять детские интенции, не всегда удается их правильно распознать. В-третьих, многие переключения кодов полиинтенцио-нальны, что создает трудности в установлении адекватной иерархии их прагматических функций.
Видеозаписи позволяют частично снять ряд проблем: пересмотрев их, родители могут дать нужные пояснения. Однако даже в таких ситуациях удается определить не все прагматические функции детских переключений кодов. Поэтому описание прагматики детских переключений кодов сопровождается так называемой симптоматической статистикой, то есть указывается, какие из билингвальных прагмем являются более или менее частотными и репрезентативными, реализуются как наиболее характерные и отражают специфику билингвального коммуникативного поведения ребенка.
Каждая детская билингвальная прагме-ма описана на трех этапах развития ребенка: 3 года, 4 года, 5 лет. Порядок рассмотрения прагмем задается активностью их проявления в речи детей – от наиболее к менее заметным в коммуникации детей определенного возраста.
Результаты и обсуждение
Адресатная функция детских переключений кодов часто взаимодействует с воздействующей : понимая, что переход на английский язык окажет нужное воздействие на конкретных адресатов – отца и его родителей, дети включали в свои директивные речевые акты английские слова.
Трехлетние дети чаще всего переключались для реализации этих функций после напоминания со стороны взрослых.
Миша (3) 2 протянул бабушке руку со словами: Дай руку! Бабушка попросила: Say: “Give me your hand” . Миша не отреагировал, бабушка повторила просьбу еще раз, после чего Миша сказал: Дай hand !
Саша (3) за столом поинтересовался: А где соль? , а после того, как отец его исправил ( Where is the salt? ), спросил: Где salt ?
Комбинация адресатной и воздействующей функций по-прежнему была самой заметной в коммуникации детей четырехлетнего возраста не только в общении с взрослыми, но иногда и в разговорах друг с другом.
Миша (4) скомандовал брату: Сашка, let’s go! , и Саша его сразу послушался. Призыв к действию Миша произнес по-английски, а обращение осталось русским (хотя он знал, что по-английски Сашу зовут Alex ).
Слушая песню, Саша (4) сообщил: Когда я был маленький, я любил эту музыку. Yes, daddy? Адресатная и воздействующая функции при переключении на английский помогли быстро получить ответ собеседника.
Дети часто переключались для реализации адресатной функции и в пятилетнем возрасте.
Когда Миша (5) вместе с отцом собрал горку для игры, дедушка спросил его: You have assembled this construction? Миша ответил: Да, и daddy . Начав отвечать по-русски, мальчик далее назвал отца по-английски, потому что тот был рядом с ним, а именно так мальчик к нему обращался. Возможно, на появление этого переключения повлияло и то, что адресатом Миши был дедушка, который с ним тоже говорил по-английски.
Саша (5) играл, а его отец позвал его ужинать: It’s time to have meals . Саша возразил: Я еще не доиграл. One time! Смена кода здесь использована для реализации воздействующей и адресатной функций, чтобы придать просьбе бóльшую убедительность.
Металингвистическая функция переключений в речи билингвальных детей реализуется довольно часто, поскольку у них есть потребность выяснять, что означают единицы на английском языке, задавать вопросы о том, почему нужно говорить так, а не иначе. Дети интересовались тем, кто на каких языках разговаривает, кто и как говорит на английском языке, что позволяет добавить к их прагматической компетенции умение переключать коды, связанное с метакоммуни-кативной функцией. Когда дети начинают «учить» других говорить по-английски, добавляется лингводидактическая функция переключений кодов.
Миша (3) обратился к бабушке: Granny! , а отец, не расслышав и подумав, что Миша опять назвал ее по имени, поправил сына. Миша возмущенно отреагировал: Я сказал: « Granny! » Металингвистическая функция проявилась в комментарии высказывания на другом языке.
Когда младший брат Саша позвал бабушку: Баба! , Миша (3) его исправил: Сашка, надо говорить: « Granny! » Здесь реализована не только металингвистическая, но и лингводидактическая функция, так как Миша учил младшего брата обращаться к бабушке по-английски. Комментарий он выразил по-русски и внедрил в него переключение на английский язык.
Саша (3) поблагодарил бабушку за обед по-английски: Cейку! , потом, услышав смех, произнес: Сень ку! , что было уже больше похоже на thank you . Самоисправление демонстрирует осознание плана выражения английской единицы, что отражает реализацию металингвистической функции переключения на английский язык.
Четырехлетние дети чаще, чем раньше, обращали внимание на то, как и что они говорят на двух языках, иногда «мотивированно» возражали против использования английского языка в общении с кем-то из своих собеседников.
Миша (4) по-русски рассказывал бабушке о роботе, а его отец предложил: Say: “This is a robot” . Миша возразил: Я говорю не тебе, а бабе . Отец попросил: Speak English to granny . Миша хорошо усвоил, что с отцом нужно разговаривать по-английски. Что касается бабушки и дедушки, то их он видел реже и чаще говорил с ними по-русски. Выбор русского языка в общении с бабушкой отражает актуализацию и адресатной, и металингвистической функций. Последняя была реализована как метакоммуникативная – для регулирования языков в коммуникации с конкретными собеседниками.
Миша (4) услышал, как младший брат назвал его Mike , и похвалил: Правильно, Mike , что демонстрирует реализацию металингвистической и лингводидактической функций переключения кодов, так как Миша оценил и поддержал попытку младшего брата называть его по-английски.
Саша (4) не понял, что ему сказала бабушка по-английски, и попросил: Say it in Russian . Такой сигнал коммуникативной неудачи свидетельствовал о непонимании Сашей английского высказывания. Осознавая это, он применил металингвистическую формулу, переходя с русского на английский язык.
В речи обоих детей в пятилетнем возрасте к металингвистической функции переключений кодов все чаще добавляется лингводидактическая .
Миша (5) подсказал младшему брату, как надо попросить папу дать ему еще картошки: Скажи папе: «Give me some more, daddy» . Саша послушался, повторил вслед за Мишей нужную английскую фразу и получил добавку. Миша фактически перевел для Саши его просьбу на английский язык и таким образом помог ему выбрать нужные слова, когда тот обращался к отцу. Метакомму-никативная функция переключения здесь реализована вместе с лингводидактической.
Саша (5) и Миша прощались с бабушкой, у которой они были в гостях. Саша поблагодарил бабушку: Thank you, Granny! Потом он предложил брату: Миша, скажи бабушке: «Thank you» . Миша его не послушался и сказал только Bye-bye . Саша, беря пример с Миши, хотел реализовать лингводидактическую функцию, но потерпел неудачу.
Предметно-тематическая функция переключений кодов отражает желание яснее передать сообщение, связанное с темой и предметом разговора.
Миша (3), рассматривая иллюстрации в книге, спросил бабушку: Галя, granny, тё такое – it’s a train? Бабушка ответила: Yes, it’s a train . Миша задал вопрос по-русски, а потом уточнил по-английски. Реализация предметнотематической функции отражает предмет разговора: бабушка рассказывала на английском языке о поезде. Дополнительной стала металингвистическая функция: ребенок по-русски задал вопрос о значении англоязычной единицы.
Слушая запись, где дедушка разговаривал по-английски, Саша (3) несколько раз воскликнул: Это grandpa ! Саша назвал дедушку по-английски, вспомнив свое обращение к нему. Предметно-тематическая функция переключения на английский язык здесь связана с темой общения: слушали старые записи и вспоминали дедушку.
В речи обоих детей четырехлетнего возраста предметно-тематическая функция переключений кодов становится разнообразнее по способам реализации и комбинации с другими функциями.
Миша (4) сообщил бабушке: Granny, папа is coming , а потом, повернувшись к дедушке: Peter is coming , то есть он назвал отца, используя английский вариант его имени, потому что так дедушка обращался к сыну по-английски. Русское вкрапление в том высказывании, которое Миша адресовал бабушке, объясняется особенностями общения бабушки с его отцом – по-русски. В этой ситуации Миша связал предмет речи с языками, которые с ним ассоциируются.
После прогулки бабушка сказала внуку: Your gloves are wet. I will put them ... Поскольку она сделала паузу, Саша (4) закончил ее фразу: ...to dry. Daddy так говорит. Вкрапление слова Daddy как привычного обращения к отцу свидетельствует о реализации предметно-тематической функции переключения на английский язык.
У пятилетних детей, особенно у Миши, предметно-тематическая функция стала проявляться заметнее, чем ранее. Это были переключения на английский язык, в которых обнаруживались ассоциации с англоязычными собеседниками или ситуациями.
Миша (5) сообщил: А я без куртки пришел, like daddy . Английское словосочетание использовано для обозначения англоязычного собеседника. При этом актуализирована и адресатная функция, так как Миша говорил с англоязычными собеседниками – бабушкой и дедушкой.
Когда Саша (5) объяснял значения слов, связанных с предметом разговора, предметно-тематическая функция комбинировалась с металингвистической, как в ситуации, когда отец рассказывал бабушке о книгах, которые читал сыновьям: Вчера читал книгу о львах.
Я им сказал, что lions are big cats, they are predators. Саша вмешался в этот разговор, выразив свои мысли по обсуждаемой теме: Predators – значит плохие. Они едят: кошки – кошек, львы – львов, их мясо – meat . Ключевые слова разговора о хищниках и их еде Саша назвал переключившись на английский язык.
Фатическая функция смешанных высказываний актуализировалась, когда формулы этикета одного языка внедрялись в речь на другом языке. Чаще всего это происходило с английскими единицами в русских высказываниях.
Миша (3) желал папе спокойной ночи так: Good night , папа . Фатическая функция здесь реализована вместе с адресатной.
Саша (3) использовал русские этикетные формулы, но изредка в своих русскоязычных высказываниях прибегал и к английским byebye и thank you .
Миша (4) одевался, чтобы выйти на улицу, и сказал бабушке: Я хочу, чтобы ты в окно сказала « Bye-bye ». Так он показал, что бабушка будет говорить по-английски, и прокомментировал языковые особенности этой ситуации, то есть фатическая функция билингваль-ной прагмемы реализована вместе с адресат-ной и металингвистической.
Саша (4) попросил бабушку: Я хочу тарелку, please . Здесь реализованы фатическая и воздействующая функции переключения на английский язык.
Приветствуя собеседников, четырехлетний Саша переходил на тот язык, который он считал адекватным. Например, когда пришел председатель ТСЖ и бабушка попросила Сашу поздороваться: Say “Hello”, Alex , Саша сразу оценил ситуацию и понял, что поздороваться надо по-русски, поэтому сказал: «Привет!» Фатическая функция здесь комбинируется с адресатной – ориентацией на язык собеседника.
В пятилетнем возрасте оба мальчика привычно произносили приветствия, прощания и другие формулы этикета на английском языке. Обращения к англоязычным собеседникам (daddy, granny, grandpa) были иногда единственным маркером билингвальной речи, так как всю остальную часть высказываний дети часто произносили по-русски. Вместе с фатической проявлялась адресатная функция: дети использовали английские обращения и английские формулы этикета только в общении с теми, кто говорил с ними по-английски.
Саша (5), прощаясь с матерью, сказал: Мама, пока! А с отцом он здесь же попрощался по-английски: Good-bye, daddy! Тем самым он показал, что для каждого из родителей он выбирает тот язык, который они от него ожидают (фатическая функция комбинируется с адресатной).
Функция самоидентификации проявлялась, когда дети хотели похвастаться тем, что умеют говорить по-английски. У Миши в возрасте трех и четырех лет ситуаций реализации этой функции не зафиксировано. У Саши она часто наблюдалась, когда ему было четыре года.
Саша (4) сообщил короткую английскую фразу, но подчеркнул переключением на русский, что умеет говорить по-английски: It’s cold. Я говорю по-английски, как папа . Функция самоидентификации сочетается с металингвистическим комментарием при смене кода на русский.
В пятилетнем возрасте, когда дети осознавали свое умение говорить по-английски, они иногда с удовольствием это подчеркивали.
Миша (5) рассматривал картинки в книжке о детях, которые идут в школу, и сообщил: Я хочу в школу . Бабушка ответила: You must read and count . Миша сказал: Я могу count : one, two, three и дальше . Так, демонстрируя свои умения по-английски, Миша в билинг-вальной прагмеме реализовал функцию самоидентификации.
Саша (5) спросил мать: Мама, почему ты по-английски не говоришь? Бабушка вмешалась в этот разговор и спросила Сашу: And why don’t you speak English? Саша ответил сначала по-английски, но потом все же перешел на русский: I speak . А мама не понимает по-английски . Саша подчеркнул свое умение говорить по-английски, противопоставив себя маме. Вместе с функцией самоидентификации он реализовал метакомму-никативную функцию.
Эмоциональная функция часто комбинировалась с эмфатической при выделении ремы высказывания с помощью переключения.
Когда Миша (3) начал пить сок, бабушка спросила: Is it good? Миша ответил: Good. Вкусное такое. It is good . Миша переключился дважды – с английского на русский и снова на английский, причем дублировал семантику высказывания оба раза, но именно переключение на русский язык отражало реализацию эмоциональной функции.
Миша (3) показал на покрывало: Я буду рисовать здесь . Бабушка возразила: No, it’s not paper. You shouldn’t paint here . Миша не согласился, сменив код, но сохранив ключевое слово на английском языке: Это paper , да, paper ! Таким образом, рема его высказывания эмоционально подчеркивалась именно переключением кода и его повторением, что позволяет говорить о реализации эмфатической функции.
Саша (3) построил домик из кубиков, но он сломался, что вызвало его крик сначала по-русски, а потом по-английски: Нет! – No! Очевидна эмоциональная функция такого дублирования – оно усилило его возмущение.
Миша (4) уронил машинку и воскликнул: Scheisse! Бабушка сказала: Mike, you shouldn’t say this word , на что Миша возразил: Так папа говорит . Использование переключения на немецкое эмоциональное слово и при этом комментарий о нем позволяют говорить, что Миша актуализировал в этой смене кодов эмоциональную и металингвистическую функции.
Саша (4) играл с бабушкой в шашки и решил подсказать ей, что она должна бить: Eat . Scheisse , чё ты сделала? Эмоциональная функция проявилась в том, что он использовал переключение на немецкое эмоциональное восклицание, которое слышал от отца. Значения его он не знал, но усвоил, как использовать: для выражения досады, сожаления, других негативных эмоций. В этом высказывании он переключился дважды: с английского на немецкий и потом на русский язык.
Миша (5) и его младший брат пришли к бабушке в комнату смотреть мультфильм на ее компьютере. Саше был интересен и компьютер, и бумага с карандашами. Бабушка спросила его: Do you want to watch or to draw? Миша ответил за обоих: Он хочет to draw, а я – to watch. Миша актуализировал две альтерна- тивы как ремы, намеченные в вопросе бабушки. Таким образом, он реализовал эмфатическую функцию переключений кодов.
Декоративная функция стала реализовываться в коммуникации детей, когда они хотели показать, что использование слов из двух языков каким-то образом украшает их речь. Случаи эти были единичными, и не всегда их можно однозначно трактовать как «декоративное» намерение.
Миша (5) что-то напевал, но понять можно было только отдельные слова. Оказалось, что это была «песня», которую он сочинил сам: Wear this, oh wear this, да-да, мама , wear this . Бабушка спросила: What is this song about? Миша объяснил: Я говорю это, когда мама красивая . Русское вкрапление в английскую «песню» он использовал не только для декоративной, но также и для адресатной функции, так как сочинил ее для матери.
Саша (5) назвал бабушку бабушка Granny , когда в каком-то мультфильме так называли бабушку. Это обращение привлекло его внимание, и поэтому он намеренно «приукрасил» свое высказывание «цитированием».
Выводы
Таким образом, когда ребенок осознает присутствие в его речи двух языков, он начинает вырабатывать стратегии речевого поведения, которые направлены на то, чтобы эти два языка помогали добиваться определенных коммуникативных целей.
С уверенностью можно утверждать, что стратегия ориентироваться на язык собеседника является одной из самых заметных у детей, которых воспитывают по принципу «один человек – один язык». Эта стратегия реализуется в том, что дети активно используют ад-ресатную функцию, которая комбинируется почти со всеми остальными прагматическими функциями, но чаще всего – с воздействующей. Воздействующая функция в свою очередь сигнализирует о том, что ребенок начинает ориентироваться на лингвистические ожидания родителей, а потому «правильно» выбранный язык, своевременная смена языка общения или переключения кодов часто помогают маленькому билингву быстрее достичь своих целей.
Дети владеют двумя языками в разной степени и, ощущая сложности в использовании недоминантного («слабого») языка, прибегают к так называемой «стратегии облегчения», когда переключаются на тот язык, на котором им легче выразить свои мысли и чувства. В таких случаях даже адресатная функция не реализуется в полной мере.
У детей с трехлетнего возраста более заметной в прагматике билингвальной речи становится металингвистическая функция. Они активно размышляют о двух языках, задают вопросы о значении единиц в этих языках, сами пытаются многое пояснить. Эта функция реализуется и как метакоммуникативная, когда дети с помощью одного языка комментируют особенности общения на другом. Ощущая потребность научить кого-то говорить на разных языках, дети строят высказывания, актуализируя лингводидактическую функцию.
В коммуникации детей фатическая функция почти всегда связана с адресат-ной: они переключались на английские формулы этикета, общаясь с англоязычными собеседниками.
Реже в речи детей реализовались: функция самоидентификации, которая отражала желание похвастаться билингвальными способностями; эмоциональная функция, которая способствует более яркому выражению эмоций; игровая, которая требует высокого уровня владения двумя языками; декоративная и связанные с ней юмористическая и цитатная функции, отражающие эстетическую оценку лингвистических единиц.
Анализ билингвальных прагмем помогает понять специфику дискурсивных практик маленьких билингвов: сохранение или смена кода по мере взросления детей становятся ситуативно и прагматически обоснованным выбором в двуязычной коммуникации.
Список литературы От 3 до 5: прагматические функции детских переключений кодов
- Чиршева Г. Н., 2000. Введение в онтобилингвологию. Череповец : Изд-во Череповец. гос. ун-та. 194 с.
- Чиршева Г. Н., 2012. Детский билингвизм: одновременное усвоение двух языков. СПб. : Златоуст. 488 с.
- Чиршева Г. Н., Коровушкин П. В., Мушникова Н. С., 2018. Прагматика русско-английских переключений кодов в речи двух билингвальных детей // Верхневолжский филологический вестник. № 3. С. 193–199.
- Arnaus Gil L., Jiménez Gaspar A., Müller N., 2018. The Acquisition of Spanish SER and ESTAR in Bilingual and Trilingual Children: Delay and Enhancement // Language Acquisition and Contact in the Iberian Peninsula / ed. by A. Cuza, P. Guijarro-Fuentes. Berlin : de Gruyter. P. 91–124.
- Cantone K., 2007. Code-Switching in Bilingual Children. Dordecht : Springer. 272 p.
- Capone A., 2005. Pragmemes (A Study with Reference to English and Italian // Journal of Pragmatics. Vol. 37, iss. 9. P. 1355–1371.
- Capone A., 2018. Pragmemes Again // Lingua. Vol. 209. P. 89–104.
- Capone A., 2020. Presuppositions As Pragmemes: The Case of Exemplification Acts // Intercultural Pragmatics. Vol. 17, iss. 1. P. 53–75.
- Comeau L., Genesee F., Lapaquette L., 2003. The Modeling Hypothesis and Child Bilingual Codemixing // International Journal of Bilingualism. Vol. 7, iss. 2. P. 113–126.
- Gergely Z., 1997. Code-Mixing in the Speech of a 2; 8 Year-Old Hungarian-English Bilingual Child // Applied Linguistic Studies in Central Europe. Vol. 1. P. 149–154.
- Gutiérrez-Clellen V., Simón-Cereijido G., Leone A. E., 2009. Codeswitching in Bilingual Children with Specific Language Impairment // International Journal of Bilingualism. Vol. 13, iss. 1. P. 91–109.
- Ige B., 2010. Identity and Language Choice: ‘We Equals I’ // Journal of Pragmatics. Vol. 42, iss. 11. P. 3047–3054.
- Kecskes I., 2010. Situation-Bound Utterances As Pragmatic Acts // Journal of Pragmatics. Vol. 42, iss. 11. P. 2889–2897.
- Kuzyk O., Friend M., Severdija V., Zesiger P., Poulin-Dubois D., 2020. Are There Cognitive Benefits of Code-Switching in Bilingual Children? A Longitudinal Study // Bilingualism: Language and Cognition. Vol. 23, iss. 3. P. 542–553.
- Lanvers U., 2001. Language Alternation in Infant Bilinguals: A Sevelopmental Approach to Codeswitching // International Journal of
- Bilingualism. Vol. 5, iss. 4. P. 437–464.
- Mey J. L., 2001. Pragmatics. An introduction. 2nd ed. Oxford : Blackwell. 392 p.
- Mey J. L., 2010. Reference and the Pragmeme // Journal of Pragmatics. Vol. 42, iss. 11. P. 2882–2888.
- Montanari S., Ochoa W., Subrahmanyam K., 2019. A Longitudinal Investigation of Language Mixing in Spanish-English Dual Language
- Learners: The Role of Language Proficiency, Variability, and Sociolinguistic Factors // Journal of Child Language. Vol. 46, iss. 5. P. 913–937.
- Nicoladis E., Secco G., 2000. The Role of a Child’s Productive Vocabulary in the Language Choice of a Bilingual Family // First Language. Vol. 20. Р. 3–28.
- Piirainen-Marsh A., 2010. Bilingual Practices and the Social Organisation of Video Gaming Activities // Journal of Pragmatics. Vol. 42, iss. 11. P. 3012–3030.
- Poeste M., Müller N., Arnaus Gil L., 2019. Code-Mixing and Language Dominance: Bilingual, Trilingual and Multilingual Children Compared
- // International Journal of Multilingualism. Vol. 16, iss. 4. P. 459–491.
- Ribot K. M., Hoff E., 2014. ‘¿Cómo estás?’ ‘I’m good.’ Conversational Code-Switching is Related to Pr ofiles of Expressive and Receptive
- Proficiency in Spanish-English Bilingual Toddlers // International Journal of Behavioral Development. Vol. 38, iss. 4. P. 333–341.
- Saunders G., 1988. Bilingual Children: From Birth to Teens. Clevedon : Multilingual Matters. 274 p.
- Yow W., Tan J., Flynn S., 2018. Code-Switching As a Marker of Linguistic Competence in Bilingual Children // Bilingualism: Language and Cognition. Vol. 21, iss. 5. P. 1075–1090.