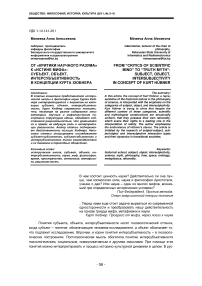От «критики научного разума» к «истине мифа»: субъект, объект, интерсубъективность в концепции Курта Хюбнера
Автор: Минеева Анна Алексеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3-4, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье концепция представителя исторической школы в философии науки Курта Хюбнера интерпретируется с акцентом на категории субъект, объект, интерсубъективность. Курт Хюбнер стремится показать, что, несмотря на разное содержание этих категорий, научные и мифологические построения структурно едины, обладают собственной рациональностью, что уравнивает их в правах на ведущую роль в интерпретации реальности. Автор статьи подчеркивает двойственность позиции Хюбнера. Написание статьи инициировано исследованием субъект-субъектного, субъект-объектного и интерсубъективного типов взаимодействия и их динамики в переходных обществах.
Историческая школа, субъект, объект, интерсубъективность, наука, миф, философия, время, пространство, онтология, метафизика, рациональность
Короткий адрес: https://sciup.org/14940472
IDR: 14940472 | УДК: 1.14.141.201
Текст научной статьи От «критики научного разума» к «истине мифа»: субъект, объект, интерсубъективность в концепции Курта Хюбнера
В чем состоит ценность науки? Действительно ли она лучше, чем космология хопи, наука и философия Аристотеля, учение о дао? Или наука – один из многих мифов, возникший при определенных исторических условиях?
Пол Фейерабенд. Против метода.
Очерк анархистской теории познания
...Перед нами еще стоит задача вырваться из современной односторонности и преобразовать нашу действительность на основе триады мифа, метафизики и науки.
Курт Хюбнер. Прогресс от мифа, через логос к науке
Понятия субъекта, объекта, интерсубъективности носят гносеологический оттенок, когда субъект – понятие, обозначающее человека-исследователя, а объект обозначает то, что подлежит исследованию. Впрочем, и корни понятия интерсубъетивность – в гносеологических построениях. Постклассическая мысль обогатила понятие интерсубъективности психологическим, социальным, коммуникативным и другими смыслами. При помощи этих понятий можно интерпретировать и процесс историко-культурной динамики в целом. В рус- ле данной интенции цель статьи связана с исследованием излагаемых Куртом Хюбнером идей с акцентом на понятия «субъект», «объект» и «интерсубъективность».
Понятия субъекта и объекта связаны в концепции Хюбнера со сравнительным анализом понимания этих понятий в науке и мифе. Различение субъекта и объекта, где субъект – независимый, автономный человек, а объект – природа, не является для Хюбнера самоочевидным, ведь онтологическая разделительная линия «от Аристотеля через Декарта к Ньютону», с помощью которой «Декарт разводит субъект и объект, принадлежащее субъективному и принадлежащее объективному, может быть понята из исторических условий, в которых он жил, и, однако, эта разделительная линия, чреватая столь чудовищными последствиями, никоим образом не была убедительно обоснована», а «понятие разума, на котором она покоилась, оказалось рационалистической мечтой» [1, с. 24].
Курт Хюбнер обращается к понятию объекта, сформированного физикой, которое вплоть до современности определяет общепринятые представления о природной реальности. Причем следствием представления о том, что и миф, и поэзия, и наука – только лишь виды опыта, оказывается возможность объяснить, что понятие объекта – природной реальности, которое используется в целях критики природной реальности так, как она видится мифом, – сформировано физикой. Критический анализ идей Ньютона, Эйнштейна, Бора показывает не только то, что эти идеи находятся в рамках заданной ранее субъект-объектной оппозиции, но главное – «не эксперимент устанавливает здесь истину, а способ априорного обоснования посылок». Основания физики оказываются онтологией, неким априорным и сугубо историческим определением природы исследуемого объекта.
В отличие от онтологии-науки фундамент мифологической онтологии – единство идеального и материального, субъекта и объекта, где, «чтобы правильно понять, о чем идет речь, нельзя исходить из разницы между субъектом, как чем-то идеальным, и объектом, как чем-то материальным, чтобы позже поставить в тесную и в конце концов неразрывную связь, а наоборот, сначала надо их вывести из данного единства», понятого как «нечто нуминозное, явление нуминозного существа, как, например, бога» [1, с. 97–98].
Здесь человек не является автономным, «как единичное, как индивид и Я он ничего собой не представляет», и, лишенный святости, – это «человек без рода, без закона, без очага; именно в такой последовательности стоят данные слова, образуя как бы устойчивую формулу» [1, с. 109]. Он оказывается ареной, на которой разыгрывается нуминозное событие: «менос, а не сам человек поднимается с постели, идет на борьбу или обращается к кому-нибудь в важную минуту». Все способности человека оказываются проявлениями божественного (менос, арете, нус). Осознать сполна присутствие нуминозных сущностей человек может в момент кайроса – в наиболее впечатляющие минуты, когда жизнь преображается, у человека рождаются идеи, он прозревает, принимает важное решение и др. Примечательно, что обращаясь к оракулу, человек стремится выяснить не будущее, но само божественное повеление, которое и следует реализовать. Именно это означает жизнь в соответствии с божественной волей, где личное счастье второстепенно и «счастье в перспективе вообще невозможно вопреки божественной заповеди». В качестве наибольшего зла рассматриваются здесь не смерть или страдание, но жизнь в условиях покинутости богами. Страдание и смерть могут привести к вечной жизни, посмертной славе, к укреплению вечной субстанции клана, являющейся подлинной реальностью Я; жизнь же без божества есть не что иное, как пустой мрак. Таким образом, субъект и объект в мифологической онтологии не противопоставляются, но являются единым целым.
Миф предстает как замкнутая онтологическая система. Это означает, что он обладает априорным фундаментом, где интерпретируются понятия времени, пространства, целого и части и др.
Время в мифе – это и «время той «земной оболочки», в которую проникает мифическая субстанция в качестве архе», «время, которое не знает ничего вечного» [1, с. 129], в котором «все движется навстречу смерти», и священное время. Противоречие идентичности и повторения «снимается» с помощью понятия архе, его «идентичном повторении»: архе постоянно повторяется в профанном времени, но одновременно оно принадлежит вечному священному времени, а потому идентично самому себе.
Пространство в мифологических представлениях так же, как и время, подразделяется на священное и профанное. Профанное пространство пронизано теменосами – определенные границами священные места, где присутствует божество, «теменос – это всякое место, в котором живет бог или где постоянно находится и возобновляется архе». Пространство в мифе обладает особой топологией – священные теменосы прерывны, неоднородны и анизотропны, оставаясь теми же самыми, они могут быть и доступными, и недоступными для человека.
Там, где миф усматривает снятие противоречий Я и мира, человека и природы в высшем единстве нуминозных сущностей, естественно-научное рассмотрение либо разламывает все на строго отделенные друг от друга элементы, либо связывает в виде отношения между абстрактными субъектом и объектом. Исчезает всякая персонализация предмета, а чувственно-наглядные сущности-образы заменяются строгими математическими конструкциями.
Понятие интерсубъективности разрабатывается Куртом Хюбнером с целью доказать, что нет возможности сопоставить содержание науки и содержание мифа, установить рациональное преимущество одного содержания над другим, выбор между ними обусловлен историческими условиями.
Интерсубъективность понимается Хюбнером как форма, модель, процедура рационального объяснения и обоснования положений. Здесь прослеживается отождествление интерсубъективности и рациональности, понимаемой как познаваемость, обосновывае-мость, последовательность и общеобязательная приемлемость. Хюбнер выделяет различные аспекты рациональности-интерсубъективности: семантический, предполагающий наличие ясности, обоснованности понятий, суждений и умозаключений; эмпирический, связанный с тем, что рационально обоснованы те высказывания, которые опираются на эмпирические факты; логический – указывает на понятия как результат логического вывода; операциональный, включающий определенный способ деятельности; нормативный, опирающийся на ценностные основы.
Вывод, который формулирует Хюбнер: «различие между научным и мифическим опытом лежит исключительно в области содержания», «рациональная структура объяснения и интерсубъективного обоснования при этом никак не затрагивается». Различное содержание науки и мифа обусловливает только различные критерии их семантической интерсубъективности, то есть рациональность формы обоснования содержания и науки, и мифа сохраняется, и нет возможности объяснить преимущество одного содержания над другим.
Какова же цель поиска «истины мифа» Куртом Хюбнером? Это только исследование мифа как особого явления культуры? Это сугубо сравнительный анализ науки и мифа, их онтологических основ, осуществленный философом и методологом науки? Здесь необходимо подчеркнуть двойственность позиции Хюбнера. С одной стороны, его идеи можно рассматривать как развитие основных тем, разрабатываемых исторической школой философии науки. В контексте идей Томаса Куна, Имре Лакатоса, Пола Фейерабенда он настаивает не на застывшей априорности условий научного знания, понятия истины, но обосновывает их исторически изменчивую природу. Как следствие – исследование
К. Хюбнером не только науки, но и мифа, который обладает собственной рациональностью, а его элементы присутствуют в современной культуре. В русле интенций исторической школы, и наука, и поэзия, и миф – это виды культурного опыта, они обладают собственной онтологической структурой, и неправомерно абсолютизировать один из них. Этот подход в философии науки называют плюралистическим, в нем можно увидеть не только идеи критического рационализма, методологического анархизма, но также идеи феноменологии, герменевтики и др.
С другой стороны, «Истина мифа» – это, несомненно, оригинальный подход в рамках исследований мифа, инновационность которого в том, что здесь впервые применяются методы и результаты философии науки к исследованию мифологического материала. Как следствие – сравнительный анализ научных форм мышления и опыта с мифологическим мышлением и опытом, вывод об их равноценности. В отличие от аллегорической и эвгеме-рической интерпретаций, интерпретации мифа как «болезни» языка, ритуальносоциологической, психологической, трансцендентальной, структуралистской, символической и романтической интерпретаций мифа, нуминозная интерпретация, с одной стороны, стремится понять миф в его исторических условиях без оценки на основе современных взглядов, а с другой стороны, миф сам является в ней современностью в том смысле, что может иметь для нее непосредственное значение. Особенность этой интерпретации – миф рассматривается здесь как укорененный в нуминозной реальности, «нуминозная интерпретация мифа высказала претензии на выявление в нем божественной реальности». То есть за обоснованием интерсубъективности и исторически изменчивой природы научного знания, выработкой собственной концепции мифа выявляются мировоззренческие основы современной культуры, стремление разобраться в причинах поглотивших ее проблем.
Ссылки: References (transliterated):
1. Хюбнер К. Истина мифа : пер. с нем. М., 1996. 1. Hübner K. Istina mifa : transl. from German. M., 448 с. 1996. 448 p.