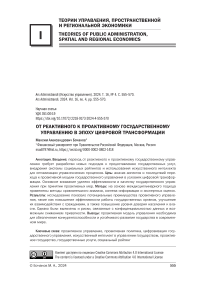От реактивного к проактивному государственному управлению в эпоху цифровой трансформации
Автор: Максим Александрович Бочанов
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Теории управления, пространственной и региональной экономики
Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: переход от реактивного к проактивному государственному управлению требует разработки новых подходов к предоставлению государственных услуг, внедрения системы социальных рейтингов и использования искусственного интеллекта для оптимизации управленческих процессов. Цель: анализ аспектов и последствий перехода к проактивной модели государственного управления в условиях цифровой трансформации. Основное внимание уделено эффективности и качеству государственного управления при принятии проактивных мер. Методы: на основе междисциплинарного подхода применены методы сравнительного анализа, синтеза информации и экспертных оценок. Результаты: исследование показало потенциальные преимущества проактивного управления, такие как повышение эффективности работы государственных органов, улучшение их взаимодействия с гражданами, а также повышение уровня доверия населения к власти. Однако были выявлены и риски, связанные с конфиденциальностью данных и возможным снижением приватности. Выводы: проактивная модель управления необходима для обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития государства в современном мире.
Проактивное управление, проактивная политика, цифровизация государственного управления, искусственный интеллект в управлении государством, проактивное государство, государственные услуги, социальный рейтинг
Короткий адрес: https://sciup.org/147247356
IDR: 147247356 | УДК: 351:004.9 | DOI: 10.17072/2218-9173-2024-4-555-570
Текст научной статьи От реактивного к проактивному государственному управлению в эпоху цифровой трансформации
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия ,
,
Государство – стержневой институт общества, важнейшее достижение человечества в контексте самоорганизации. Эволюция государства длилась тысячи лет, от протогосударственных образований до современного зрелого состояния, которое уже во многом основывается на цифровизации. Несмотря, однако, на огромные изменения в механизмах и технологиях осуществления государственной политики и государственного управления, суть государства почти не изменилась. Главное назначение государства во внешней среде – защита от угроз и обеспечение его суверенитета. Внутриполитические функции более многочисленны, но главный смысл их все тот же и состоит, как высказывались древнегреческие мыслители Платон и Аристотель, в стремлении к общему благу. Государство, с точки зрения Платона, не что иное, как образование массы людей для удовлетворения их собственных нужд. Это достигается путем перераспределения ресурсов, охраны правопорядка, обеспечения здравоохранения, образования и других социальных функций, которые в разной мере характерны для современных государственных институтов.
Таким образом, общий смысл государства как важнейшего института в истории эволюции человечества меняется несущественно. При этом концептуальные основы, механизмы и технологии реализации государственной политики претерпевают довольно серьезные изменения на основе современных вызовов и потенциальных возможностей науки. Это и заставляет человечество взглянуть на концепт государства с новых позиций, которые просматриваются в политике, экономике, технологическом развитии общества.
Обострившаяся мировая борьба за сферы влияния, ресурсы, формирование единых подходов, смыслов развития по установленным правилам, разделяемым всеми государствами и их гражданами, выдвигает реальности новые требования. Пандемия COVID-19, энергетический кризис, военные конфликты истощили моральные и финансовые ресурсы людей. Правительства приняли вызов и решили оказать беспрецедентную помощь своим гражданам, начав борьбу с коронавирусной инфекцией и вызванной ею экономической турбулентностью. Россия не стала здесь исключением. В нашей стране осуществляется довольно широкая социальная поддержка уязвимым категориям населения, при этом целью социальной политики является усиление адресной поддержки граждан. Последнее не всегда в полной мере удается, и не только в нашей стране, но и в других развитых странах. Например, актуальные исследования показывают, что в Европейском союзе от 30 до 70 % тех, для кого предусмотрена соцподдержка, не получают социальных пособий, на которые они имеют право (Milne, 2022, p. 4). Вдобавок довольно велика вероятность того, что именно самые нуждающиеся их упустят. Многие льготы остаются нераспределенными просто потому, что получатель не знает о своем праве на них или об алгоритме их получения, поскольку доступ к пособию слишком обременителен или сопряжен с социальной стигматизацией.
Перевод этих услуг в цифровую форму может облегчить их использование многими гражданами, но не устраняет фундаментальных барьеров для самых уязвимых. По этой причине наиболее прогрессивные государства идут дальше, автоматически предоставляя гражданам назначенные им льготы на основе данных, которыми располагает правительство. Такие «проактивные услуги» оказываются без необходимости заполнять документы или предпринимать какие-либо иные действия. Отличным примером могут служить выплаты на детей в период пандемии коронавируса, которые российское правительство предоставляло семьям с детьми в проактивном режиме: от получателей выплат требовалось лишь указать номер банковского счета на едином портале госуслуг для перечисления средств. Во время пандемии COVID-19 российские семьи получили выплаты на 26,5 млн детей на сумму 617 млрд рублей1. Пример Португалии также заставляет делать выводы в пользу снижения бюрократической нагрузки на население. Социальные службы этой страны автоматически предоставляли помощь на основе данных о доходах и социальных пособиях, которые уже имелись в распоряжении правительства. В результате число семей, получающих выплаты, увеличилось с 73 550 в 2011 году до 812 680 в 2018-м, что более чем в десять раз превысило стартовые позиции (Milne et al., 2022, p. 4). Это показывает эффективность цифровой трансформации государственного управления и необходимость дальнейшего ее развития.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В глобализированном и цифровизирующемся мире государственное управление должно использовать имеющиеся у него возможности для установления более тесных и комфортных отношений с гражданами – отношений, которые позволяют предоставлять более качественный сервис на основе проактивного подхода. Рассмотрим концептуальные основы проактивного подхода к управлению.
Понятие «проактивный» в XX веке первым ввел в научные оборот один из крупнейших специалистов в области психологии, психиатрии и философии Виктор Эмиль Франкл в работе «Человек в поисках смысла» (Франкл, 1990). В этом труде австрийский ученый рассуждает о проактивности как свойстве личности принимать ответственность за свое существование лишь на себя, связывая свои жизненные коллизии исключительно с внешними обстоятельствами и другими людьми. Франкл стоял у истоков экзистенциальной психологии и логотерапии, определяя в качестве главной мотивационной движущей силы человека поиск им смысла жизни.
С точки зрения другого видного деятеля психологической науки американца Гордона Олпорта, психологически полноценному человеку свойственно такое важнейшее личностное качество, как проактивность (Allport, 1955). По его мнению, именно проактивность определяет эффективность адаптации личности к меняющимся условиям и внешним раздражителям.
Известно понятие проактивности и в экономических науках. В частности, отечественный исследователь Надежда Давыдова выделяет проактивный менеджмент в качестве системы, которая нацелена на формирование само-развивающейся организации, способна изучать себя и окружающую среду и меняться, чтобы обеспечить упреждающее развитие по отношению к динамике потребностей клиентов и вызовам конкурентов на основе баланса интересов всех участников рынка (Давыдова, 2015).
Наше исследование носит во многом междисциплинарный характер. В его рамках предпринята попытка соотнести смысл существования отдельного человека как субъекта политического со смыслом существования и предназначением политического института государства в современном контексте, поэтому вышеописанные концептуальные представления мы экстраполируем на политический мир. При всем этом справедливо заметить, что понятие проактивности и проактивного подхода встречается в политической науке лишь
Бочанов М. А. От реактивного к проактивному государственному управлению в эпоху цифровой трансформации фрагментарно и не имеет в ней системного целостного концепта, что только актуализирует настоящее исследование.
На наш взгляд, сегодня перед государством стоит очень простая, но в то же время сложно осуществимая задача – сделать жизнь людей максимально комфортной и позволить им реализовать свой потенциал в жизни, не отвлекаясь на бюрократические барьеры. Это во многом улучшит отношения государственных структур с гражданами, повысит уровень их доверия к властям. Для этого на основе проактивного подхода к государственной политике и управлению необходимо строить проактивное государство.
Проактивный подход основывается на устранении проблем до того, как они могут появиться, а реактивный подход – на реагировании на события уже после их завершения. Разница между этими двумя подходами заключается в перспективе, которую каждый из них дает при оценке действий и событий.
Проактивная политика формируется государством на стратегическом уровне, заранее и намеренно; она почти всегда работает для предотвращения проблемной ситуации в той или иной сфере. В современной общественнополитической действительности востребованным становится проактивное государство, которое в упреждающем формате способно удовлетворять потребности граждан и решать возможные проблемы еще до их появления. Эта концепция имеет большие возможности для реализации на основе включения в государственную политику цифровых технологий обработки больших данных, внедрения искусственного интеллекта (ИИ), автоматизации процесса принятия управленческих решений и адаптации законодательства к этим целям.
Современное политическое управление чаще всего основывается на реактивном подходе. Он зачастую имеет пассивный характер. Он предполагает, что все в порядке, пока что-то не произойдет. Реактивное управление означает действия, направленные на решение проблемы до того, как она перерастет в кризис. Проактивное управление основывается на том принципе, что в первую очередь необходимо избегать проблем.
Когда применяется реактивный подход, государству трудно планировать на перспективу, сложно реализовать долгосрочное планирование. Однако когда государство сталкивается с проблемной ситуацией, оно ситуативно разрабатывает планы по управлению ею.
В основе деятельности любого государства лежат законодательные нормы, а так как проактивное управление находится на стадии обоснования и внедрения, то имеет смысл рассмотреть нормативно-правовые основания такого вида управления на примере предоставления государственных услуг в проактивном режиме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первым направлением развития проактивного управления является предоставление проактивных государственных услуг .
В последние годы в отечественной научной среде активно изучаются понятия «проактивная деятельность» (признаки и закрепление в законодательстве)
и «проактивная услуга» (типологизация и разработка правового механизма). Такой интерес в определенной степени связан с цифровизацией государственного управления2 по целедостижению трансформации в «цифре»3 – до 95 % массовых социально значимых услуг перевести в электронный вид к 2030 году; с закреплением проактивного режима предоставления этих услуг и принципа «бесшовности» (ст. 7.3 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме» Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ4); с анонсированием «поэтапного перехода до конца 2023 года к предоставлению ... государственных и муниципальных услуг для граждан в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необходимости личного присутствия граждан»5.
Услугу, которая активизируется каким-либо событием при волеизъявлении получателя и для предоставления которой государственная информационная система осуществляет сбор и хранение данных, называют проактивной (Талапина и Козяр, 2023, с. 11). Проактивность проявляют основные участники данного процесса. Со стороны пользователя требуется один раз предоставить личную информацию, и услуга оказывается автоматически, без необходимости его участия; со стороны государственного органа – бумажные формы заместить электронными, процессы автоматизировать. Повышение эффективности предоставления государственных услуг связывают с закреплением проактивного режима (Пуляевская и Якимова, 2021).
Среди российских исследователей еще нет единой точки зрения в вопросах типологизации проактивных услуг. Классифицируют проактивные услуги по разным критериям:
-
- характер взаимодействия граждан и органов власти;
-
- комплексность оказываемых проактивных государственных услуг;
-
- субъект получения проактивных государственных услуг;
-
- необходимость и допустимость хранения и повторного использования персональных данных граждан;
-
- характер жизненных обстоятельств, являющихся основанием для ока
зания проактивных государственных услуг;
-
- степень проактивности государственных услуг.
Специалисты отмечают, что на данный момент нормативно определена типологизация по характеру взаимодействия. В соответствии с названным критерием выделяют проактивное информирование и проактивные услуги. А типологизация по степени проактивности государственных услуг (полностью проактивные и условно проактивные) интересна для развития «нормативной компетенции проактивного режима оказания госуслуг... и разработки предложений по правовому регулированию» (Талапина и др., 2022, с. 11). Классификация государственных услуг с опорой на уровни мультиатри-бутивной модели была представлена в научной литературе (Карловская, 2012).
Анализ нормативно-правовых источников позволил заключить, что проактивные услуги на сегодняшний день оказываются населению Пенсионным фондом Российской Федерации (например, оформление на беззаявительной основе государственного сертификата на материнский капитал и страхового номера индивидуального лицевого счета на новорожденного ребенка, индексация пенсий), в сфере налогообложения (налоговые вычеты и льготы)6, Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка субъектами Российской Федерации7, в лицензировании отдельных видов деятельности8.
Регионы тоже внедряют практику проактивного принципа в свою управленческую деятельность, принимая соответствующие региональные нормативные правовые акты. Можем констатировать расширение проактивного режима в разных сферах государственного управления (меры социальной поддержки, налоговые вычеты и льготы, государственный и муниципальный контроль, выявление и минимизация финансовых рисков, охрана здоровья граждан).
Однако для практического использования прогрессивных проактивных идей требуется совершенствование правового механизма регулирования предоставления государственных услуг, обработки больших данных, обеспечения информационной безопасности данных.
Концепцией перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан9 предлагается оптимизировать:
-
– персонализированное информирование (получение сведений о требуемых документах, сроках оказания услуги, размере взимаемой пошлины и т. п. в «один клик»);
-
– навигацию по жизненным ситуациям (получение сведений о доступности тех или иных услуг в определенной жизненной ситуации);
-
– автоматическое начало упреждающего предоставления услуги (предоставление услуги с момента появления для этого оснований);
-
– обращение в непрерывном режиме (использование круглосуточного режима регистрации запроса на оказание услуги и т. п.);
-
– электронное взаимодействие с заявителем (возможность непрерывной передачи и получения сведений заявителем);
-
– получение результата оказания услуги (выбор заявителем удобного для него канала получения результата предоставления услуги – электронный, постамат, многофункциональный центр, курьер, почтовая связь);
-
– доступность цифровых сервисов;
-
– количество оказываемых услуг вследствие подачи комплексного заявления;
-
– роботизацию процессов (цифровой административный регламент, межведомственные запросы, интегрированные с единым порталом государственные и коммерческие системы информации);
– образцы заявлений в интерактивном формате (подготавливают федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления).
Оптимизация названных направлений требует пересмотра отраслевых нормативных правовых актов на уровне государства, региона и муниципального образования, а также утверждения цифровых административных регламентов предоставления соответствующих проактивных услуг. Вместе с тем для нормативно-правового обеспечения надлежит освободить от правовых ограничений формирование сквозных цепочек услуг, упорядочить мониторинг их предоставления (выявление и устранение нарушений в режиме реального времени), обеспечить введение реестровой модели предоставления услуг посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов. В целом требуется новое понимание места права в новой цифровой реальности (Баранов и др., 2019).
Вторым направлением реализации проактивных технологий государственного управления может стать внедрение системы социальных рейтингов . Исследования ученых (Василевич, 2021; Косоруков, 2020; Любашиц и Осинский, 2020; Доброродний, 2022; Игнатенко и Королева, 2021; Графов, 2020) содержат разносторонний анализ системы социального рейтинга, включая его влияние на общество, этические и социальные аспекты использования, а также преимущества и риски, связанные с применением подобных технологий.
Как государственный управленческий инструмент по «поощрению социально конструктивного и предупреждению социально деструктивного поведения» систему социального рейтинга рассматривает А. А. Косоруков, называя используемые в этом направлении технологии: «умное наблюдение», искусственный интеллект, контроль за транспортом, мониторинг операций по банковским картам и др. (Косоруков, 2020, с. 57). Таким образом органы государственной и муниципальной власти наблюдают и контролируют поведенческие установки граждан, формируя одобряемое социумом пове- дение посредством начисления или списания баллов. Вместе с тем развитие информационных технологий дебюрократизирует совокупность отношений между государством и обществом, укрепляя правопорядок и расширяя права и свободы личности, и тем самым выступает средством повышения эффективности государственного управления, открывая новые нормативно-правовые горизонты (Василевич, 2021, с. 80).
Изучая этические аспекты использования технологии социального рейтинга, Д. Г. Доброродний отмечает, что эта технология является инструментом «мягкого управления»: используя для мотивации цифровой контроль и систему добавочных дивидендов за социально приемлемые действия, она регулирует поведение человека, корректируя его социальную активность. С этической точки зрения это вызывает определенные опасения и риски, потому как личность лишается самостоятельности и осознанности в своих поисках, принятии решений, критическом восприятии действительности (Доброродний, 2022, с. 488).
Размышляя о перспективах и рисках практического использования социального рейтинга, В. Я. Любашиц и А. С. Осинский приходят к выводу, что во избежание воссоздания «цифровой диктатуры» в России необходимы гибкие формы исследуемого института в сочетании с уникальными особенностями нашей страны. В этой связи ученые предлагают разделить социальный рейтинг на «федеральный, областной и муниципальный» – по аналогии с уровнями власти (Любашиц и Осинский, 2020, с. 120).
Цифровое технологическое неравенство, порождающее техническую неготовность к подобного рода новациям части субъектов Российской Федерации, и региональная дифференциация населения, проявляющаяся в частности в значительной пропорции пожилых граждан в демографической структуре социума и в отсутствии надлежащего «цифрового» образования, указываются Т. М. Рябовой и С. А. Мишениным как причины, замедляющие внедрение социального рейтинга в российскую действительность (Рябова и Мишенин, 2023). Напротив, Н. Ю. Распутина считает, что население нашей страны по причине стремительного развития цифровых технологий, простимулированного пандемией COVID-19, быстро адаптируется к нововведениям и меняющимся условиям жизнедеятельности, в связи с чем обществу не требуется серьезная перестройка с включением в его жизнь системы социального рейтинга (Распутина, 2023, с. 184). На достаточную степень готовности российских граждан взаимодействовать со структурами власти через онлайн-механизмы указывает и В. В. Дербенева, обращая внимание на рост интернетизации общества с учетом относительно невысокой стоимости мобильного трафика в регионах и на количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг (Дербенева, 2020).
Анализируя опыт внедрения системы социального рейтинга в Китайской Народной Республике, исследователи отмечают высокую эффективность его применения, а также необычность и важность для изучения, особенно в период пандемии коронавируса (Графов, 2020; Евдокимова и Шумеева, 2021; Игнатенко и Королева, 2021). Но, оценивая нормативно-правовые и технические предпосылки внедрения системы социального рейтинга на федеральном уровне, ученые говорят о малой вероятности того, что российская модель будет развиваться по китайскому сценарию (Рябова и Мишенин, 2023, с. 54), и, учитывая разрыв цифрового снабжения регионов, отмечают самобытный путь ее становления.
Системы социального рейтинга в настоящее время привлекают все большее внимание в контексте их применения в современной политике и обществе. Исследования показывают, что системы, подобные китайской модели «социального кредита», могут широко применяться в борьбе с различными социальными проблемами, включая пандемии, и активно использоваться для эффективного государственного управления и контроля за общественным поведением (Kostka, 2019; Lin et al., 2022; Woesler et al., 2019; Wang et al., 2022).
Под влиянием защитников прав человека и критиков возникает важный вопрос о балансе между контролем за обществом и защитой личных свобод. Несмотря на потенциальные положительные аспекты использования подобных технологий, необходимо учитывать этические и правовые аспекты, чтобы избежать возможных форм социальной дискриминации и ущемления прав граждан.
Политическое применение социальных рейтингов в российской практике может представлять интерес для оптимизации государственного управления, улучшения качества предоставляемых услуг и принятия эффективных управленческих решений и соответствует проактивному подходу в государственном управлении. Однако внедрение подобных систем требует тщательного анализа и проработки правовой базы, чтобы обеспечить справедливое и безопасное их использование в рамках демократических принципов общества.
Третьим направлением развития проактивного управления на основе цифровизации может являться использование искусственного интеллекта на региональном и муниципальном уровнях реализации властных полномочий. При этом исследователи отмечают неоспоримые преимущества и широкие возможности применения в управлении технологий ИИ, но в то же время говорят о внешних рисках и угрозах (Ильина, 2022).
Технологии уже доказали свою незаменимость в решении социальных проблем и переосмыслении государственного управления. Искусственный интеллект – это инструмент, который на разных уровнях:
-
1) упрощает и ускоряет бюрократические процессы в органах власти;
-
2) оказывает помощь управленческим командам в принятии решений на основе интерпретации данных;
-
3) повышает производительность, скорость и эффективность, когда дело доходит до управления процедурами обращения граждан;
-
4) выполняет технологические функции, тестирует модели, основанные на машинном обучении, для модернизации процессов в государственном секторе.
Использование технологий ИИ возможно при создании виртуального помощника для органов власти с целью доведения до граждан сведений о социальном обеспечении, которые можно использовать, обрабатывать, предоставлять и получать комфортно, быстро и просто через телефонное прило- жение. Потенциальные бенефициары, идентифицируя себя с помощью своих биометрических данных, смогут выбирать электронную платформу на базе технологий искусственного интеллекта в сфере социального обеспечения и управлять ею. Первой успешной практикой в этом направлении в России можно считать робота Макса, функционирующего на портале государственных услуг. Цифрового ассистента будут тиражировать. Функционал чат-бота доработают, и он станет доступен для интеграции в региональные государственные информационные системы. Как следует из статистики CraftTalk, внедрение текстового помощника в общение с населением позволяет перевести на искусственный интеллект до 70 % обращений (McBride et al., 2023, p. 35). Это значительно сокращает рутинные действия для госслужащих и дает возможность сосредоточиться на задачах верхнего уровня и контроле за реализацией государственной политики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование предоставления государственных услуг в проактивном режиме и системы социального рейтинга граждан как технологий проактивного государственного управления показывает, что эти технологии способны существенно улучшить эффективность управления и качество оказываемых услуг. Искусственный интеллект помогает государственным органам анализировать большие объемы данных и принимать более обоснованные решения. Проактивное предоставление госуслуг позволяет гражданам получать необходимую информацию до того, как у них возникнут проблемы. Система социального рейтинга используется для поощрения законопослушных граждан и наказания нарушителей. Вместе с тем применение данных технологий может привести и к некоторым проблемам, в частности к нарушению конфиденциальности, появлению ошибок и потенциальному злоупотреблению властью. Поэтому важно учитывать риски и принимать соответствующие меры по их минимизации, разрабатывать этические стандарты и правила для использования технологий ИИ, чтобы гарантировать, что они работают в интересах общества и защиты прав граждан.
Таким образом, исследование подтверждает, что переход от реактивного к проактивному государственному управлению в эпоху цифровой трансформации является необходимым и неизбежным шагом. Это позволит государству быстрее реагировать на внешние и внутренние вызовы, предвидеть и предотвращать возможные проблемы, а также эффективно использовать цифровые технологии для достижения своих целей. Однако такой переход требует значительных усилий по модернизации государственных структур, изменению подходов к управлению и обучению кадров. Только так государство сможет сохранить свою стабильность и обеспечить благополучие своих граждан в условиях быстро меняющегося мира.
Список литературы От реактивного к проактивному государственному управлению в эпоху цифровой трансформации
- Баранов П. П., Мамычев А. Ю., Мордовцев А. Ю. Права и свободы человека в цифровую эпоху: проблемы и перспективы политико-правовой динамики // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8, № 4. С. 320-324. https://doi. org/10.26140/bgz3-2019-0804-0073.
- Василевич С. Г. Информационные технологии как средство повышения эффективности управления государственными и общественными делами // Правовая парадигма. 2021. Т. 20, № 3. С. 76-81. https://doi.org/10.15688/ lc.jvolsu.2021.3.12.
- Графов Д. Б. Система социального рейтинга в КНР как информационно-коммуникационная технология поощрения и наказания // Власть. 2020. Т. 28, № 2. С. 250-259. https://doi.org/10.31171/vlast.v28i2.7165.
- Давыдова Н. С. Проактивный менеджмент в органах государственной власти // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2015. Т. 25, № 5. С. 38-43.
- Дербенева В. В. Электронное общественное участие как вектор развития инициативного бюджетирования // ЭКО. 2020. Т. 50, № 9. С. 90-113. https://doi. org/10.30680/EC00131-7652-2020-9-90-113.
- Доброродний Д. Г. Этические аспекты применения технологии социального рейтинга // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инно-вационность, устойчивость: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19-20 мая 2022 г. / Отв. ред. А. В. Егоров, А. А. Быков. Минск: Белорус. гос. экон. ун-т, 2022. С. 487-488.
- Евдокимова Н. В., Шумеева А. Р. Система социального кредита в КНР в борьбе с COVID-19 // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 71-2. С. 157-160. https://doi.org/10.18411/lj-03-2021-75.
- Игнатенко В. А, Королева К. А. Геймификация китайской системы социального рейтинга: новые формы технологической рациональности // VII Декартовские чтения. Глобальные угрозы развитию цивилизации в XXI веке: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Под общ. ред. А. И. Пирогова, Т. В. Растимеши-ной. Ч. 1. М.: МИЭТ, 2021. С. 47-52. https://doi.org/10.24151/0965-3-2021-1-7-188.
- Ильина Е. М. Политика и управление в условиях цифровой трансформации: политологический ракурс искусственного интеллекта // Ars Administrandi (Искусство управления). 2022. Т. 14, № 3. С. 403-421. https://doi.org/10.17072/2218-9173-2022-3- 403-421.
- Карловская Е. А. Типология и систематика государственных услуг // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2012. № 1. С. 179-188.
- Косоруков А. А. Технологии «умного наблюдения» и социального рейтинга в сфере государственного управления // Теории и проблемы политических исследований. 2020. Т. 9, № 5А. С. 56-64. https://doi.org/10.34670/ AR.2020.91.12.007.
- Любашиц В. Я., Осинский А. С. Перспективы и риски применения социального рейтинга в условиях цифровой экономики России // Право и государство: теория и практика. 2020. № 11. С. 118-120. https://doi.org/10.47643/1815-1337_2020_11_118.
- Пуляевская И. А., Якимова Е. М. Проактивный режим предоставления публичных услуг: на пути к отмене заявительного порядка предоставления публичных услуг // Административное право и процесс. 2021. № 4. С. 58-61. https://doi.org/10.18572/2071-1166-2021-4-58-61.
- Распутина Н. Ю. Справедливость систем социального рейтинга и перспективы ее законности в России [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические аспекты формирования личности: сб. материалов Межвуз. науч.-практ. конф. Новосибирск: Новосибир. воен. ин-т имени генерала армии И. К. Яковлева войск нац. гвардии Рос. Федерации, 2023. С. 181-185. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=54214577&pff=1 (дата обращения: 02.03.2024).
- Рябова Т. М., Мишенин С. А. Технологии социального оценивания граждан в контексте развития субъектов Российской Федерации // Социально-гуманитарные знания. 2023. № 9. С. 52-56. https://doi.org/10.34823/ SGZ.2023.9.52024.
- Талапина Э. В., Козяр Д. Ю. Проактивные государственные услуги: на пути к алгоритмизации // Вопросы государственного и муниципального управления. 2023. № 2. С. 7-32. https://doi.org/10.17323/1999-5431-2023-0-2-7-32.
- Талапина Э. В., Южаков В. Н., Ефремов А. А. и др. Обработка данных в интересах предоставления проактивных государственных услуг: перспективы правового регулирования: научный доклад. М.: РАНХИГС, 2022. 28 с.
- Франкл В. Человек в поисках смысла: пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана / Общ. ред. Л. Я. Гозмана, Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. 366 с.
- Allport G. W. Becoming: Basic considerations for the psychology of personality. New Haven: Yale University Press, 1955. 106 p.
- Kostka G. China's social credit systems and public opinion: Explaining high levels of approval // New Media & Society. 2019. Vol. 21, № 7. P. 1565-1593. https:// doi.org/10.1177/1461444819826402.
- Lin R., Wang H.-H., Tsai W.-H. China's cloud governance: The big data bureau and COVID-19 crisis management // China Review. 2022. Vol. 22, № 1. P. 135-158.
- McBride K., Lume H., Hammerschmid G. et al. Proactive public services -The new standard for digital governments. Berlin: Hertie School Centre for Digital Governance, 2023. 53 p. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25661.64484.
- Milne G., Mitta C., Osimo D. Help where it's most needed. How leading administrations are using 'proactive public-service delivery' to aid citizens // Lisbon Council Policy Brief. 2022. Vol. 15, № 2. 22 p.
- Wang X., Shi J., Wang Z. Accurately cognising the digital economy and facilitating its healthy and sustainable development in China // Sustainable Development and Engineering Economics. 2022. № 3. P. 61-74. https://doi.org/10.48554/ SDEE.2022.3.4.
- Woesler M., Warnke M., Kettner M. et al. The Chinese social credit system. Origin, political design, exoskeletal morality and comparisons to Western systems // European Journal of Interdisciplinary Studies. 2019. Vol. 2. P. 7-35. https://doi. org/10.12906/9783865152993_002.