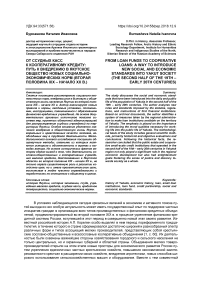От ссудных касс к кооперативному кредиту: путь к внедрению в якутское общество новых социально-экономических норм (вторая половина XIX - начало ХХ в.)
Автор: Бурнашева Наталия Ивановна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 12, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению социально-экономических норм, внедрявшихся в бытовую и общественную жизнь населения Якутии во второй половине XIX - начале ХХ в. Автор анализирует новые правила и нормы, вводимые уставами, положениями, инструкциями, появившимися с образованием финансово-кредитных учреждений. На основе документальных архивных источников показана система мер, принятых областной администрацией для распространения ссудных учреждений на территории Якутии. Особое внимание уделяется значению внедрения в общественную жизнь Якутии моральных и нравственных качеств человека, необходимых ему в трудовой деятельности. Методологической основой исследования послужили общенаучные методы, главными из которых являются историзм и объективность в оценках и выводах автора. На основе исторических фактов автором сделан вывод о том, что деятельность сословно-общественных и кооперативных учреждений мелкого кредита, действовавших в Якутской области во второй половине XIX - начале ХХ в., не только играла существенную роль в развитии хозяйства края, но и имела просветительские цели, воспитывая в людях чувство справедливости и порядочности по отношению к обществу в целом.
История якутии, история экономики, ссуда, учреждения мелкого кредита, ссудная касса, кредитное товарищество, социально-экономические нормы
Короткий адрес: https://sciup.org/149132371
IDR: 149132371 | УДК: 94:33(571.56) | DOI: 10.24158/pep.2018.12.9
Текст научной статьи От ссудных касс к кооперативному кредиту: путь к внедрению в якутское общество новых социально-экономических норм (вторая половина XIX - начало ХХ в.)
В условиях наблюдающихся сегодня кризисных явлений в экономике и активного поиска путей выхода из них особую актуальность может иметь государственный опыт по поддержке частных инициатив граждан в организации всех типов производственных и финансово-кредитных объединений, продемонстрированный во второй половине XIX в. в процессе укрепления финансово-кредитной системы России, вступившей в этот период в совершенно новый этап своего развития. Известный российский историк А.П. Корелин особо выделял в нем период пореформенного тридцатилетия, в течение которого в стране сформировался достаточно широкий и разнообразный спектр различных форм и типов ассоциаций мелких производителей, представляющих собой крестьянские сословно-общественные и всесословные кооперативные объединения [1, с. 60]. Их деятельностью были охвачены важнейшие стороны хозяйствования городского и сельского населения не только центральных, но и окраинных губерний и областей страны. Объединения мелких товаропроизводителей открыли на этом этапе новые просторы для экономического развития России путем укрепления единоличных частных крестьянских хозяйств, повышения экономической заинтересованности крестьян в расширении своих хозяйств, внедрения агротехники, новых способов широкого использования сельскохозяйственных машин и оборудования. Вместе с тем совместный труд частных хозяев, основанный на принципах взаимопомощи и сотрудничества, мог привнести в традиционную крестьянскую жизнь новые формы устройства общественной жизни, способствовать повышению ответственности каждого члена сообщества за коллективную собственность и качество своего личного вклада в общее дело.
В отличие от европейских стран, где производственные ассоциации граждан создавались по инициативе самих собственников, в России за дело организации объединений мелких производителей на его первоначальном этапе взялись представители земской, дворянской, разночинной интеллигенции, деятельность которых на этом поприще имела в большей степени просветительский характер. Поэтому и процесс становления хозяйственных по своей сути учреждений получил черты наставничества, послужив толчком к формированию в обществе новых культурных и нравственных норм и традиций. Значение новых форм объединения предпринимателей для общественного развития было отмечено и нашло свое теоретическое осмысление в трудах философов того времени. В них поднимались вопросы активизации экономического развития страны на основе системы национальных ценностей, ментальности и быта, поиска для России собственного пути развития с учетом национальных особенностей страны [2]. При этом практическое осуществление задач внедрения в повседневную жизнь людей новых социально-экономических норм и принципов потребовало от организаторов кредитных учреждений огромных усилий и настойчивости. Это объяснялось тем, что нововведения в кредитном деле часто наталкивались не только на финансовые и организационные трудности, но и на непонимание со стороны населения. Достаточно сложный процесс введения в России новых социально-экономических норм и правил, связанных с развитием системы кредитования, вызывает интерес исследователей и в современных условиях [3].
В результате ясачных реформ 1760-х гг., заменивших пушной ясак денежным, а также начавшихся в 1840-е гг. разработок месторождений золота по притокам р. Лены все более заметным становилось значение товарно-денежных отношений в хозяйственной жизни Якутской области. На фоне общей отсталости скотоводческого хозяйства и кустарного производства в крае развитие товарно-денежного оборота привело к быстрому росту купеческого и ростовщического капитала. Высокие денежные доходы торговцев и скупщиков достигались преимущественно путем вывоза и продажи пушнины за пределами области – на российских и международных рынках [4]. Внутренний же торговый оборот оставался архаичным, основанным на меновом характере операций, при котором ввезенные в область товары первой необходимости, а также ружья, орудия лова не выставлялись на свободный рынок для продажи, а, как правило, только обменивались на ценный мех и мамонтовую кость.
Для подавляющего большинства жителей Якутии недоступность денег была обусловлена также и широким распространением в пределах области хищнических способов торговли, при которых сбывающий пушнину человек даже мог не знать истинную рыночную цену товара, что позволяло купцу назначать совершенно произвольные цены, переводя этим простые торговые операции в разряд ростовщических. По наблюдениям исследователя северных районов Якутии В.М. Зензи-нова, обязательным правилом торговых операций с пушниной являлось умение купцов подводить расчет таким образом, что за инородцем, сбывающим пушнину, всегда оставался долг, который переносился на следующий год [5, с. 41]. В результате такой торговой комбинации местное население находилось в непрерывной кабальной зависимости от купечества, что по существу представляло собой грабительский способ кредитования охотников-промышленников скупщиками пушнины. Ростовщичество, усиливающееся на волне быстрорастущего капитала, все сильнее опутывало хозяйственную жизнь населения, становясь одним из главных препятствий для развития рыночных отношений [6]. Выход из положения виделся В.М. Зензинову в поднятии культуры и просвещении северных народов. В 1916 г. он писал по этому поводу: «Только постепенное проникновение культуры в эту далекую окраину может вызвать конкуренцию между капиталами, освободить промышленника от кабалы и разбудить дремлющие пока производительные силы населения. Для этого нужен приток знаний, культурных капиталов, нужны новые пути сообщения, которые почтами и пароходами свяжут далекий Север с центрами культурной жизни». По его мнению, требовались «меры, которые будили бы самодеятельность населения – этот его единственный спасительный якорь». Большую роль в этом могли сыграть общественные лавки с коллективной выпиской нужных для населения товаров, со сбытом пушнины непосредственно на якутском рынке, минуя скупщиков [7].
В силу отдаленности Якутской области от центральных губерний страны, неразвитой экономики и низкой степени образованности населения задача, призванная «разбудить самодеятельность» людей, являлась достаточно сложной для ее быстрого разрешения. Распространение ссудных и кредитных учреждений в Якутии затруднялось особенностями скотоводческого хозяйства, которое было основным для подавляющего большинства населения области. Населенные пункты (наслеги) располагались в десятках верст друг от друга, не было деревень и сел с населением в сотни домов или хозяйств. В деревнях с русским населением насчитывалось один- два десятка домов, в местах с инородческим населением - одна-три юрты [8, с. 2]. В таких условиях своеобразным «спасительным якорем» для хозяйств Якутии стало издание Положений о вспомогательных и сберегательных кассах государственных крестьян, утвержденных Министерством государственных имуществ 7 марта 1840 г. В этом документе практически впервые государством были предложены меры по организации различных типов кредитных учреждений среди крестьян, которые могли быть применены в Якутии. Ответственность за процесс формирования учреждений мелкого кредита на местах возлагалась на губернатора области и областное правление. Результатом усилий Якутского областного управления стало создание довольно устойчивой сети учреждений мелкого кредита, представленной в начале ХХ в. сословно-общественными (вспомогательные, ссудо-сберегательные кассы и ссудная касса якутов) и кооперативными (ссудо-сберегательные и кредитные товарищества) объединениями.
Деятельность учреждений мелкого кредита внесла в повседневный обиход не только новые понятия и термины, такие как: кредит, ссуда, залог, заем, но и новые принципы трудовых и производственных связей, а также нормы и правила социальной жизни. Участие в работе кредитных учреждений ставило перед их членами условия строгого соответствия нормам устава и соблюдения правил работы в коллективе. Не менее важными являлись требования подчинения решениям общих собраний коллектива и уважения мнения его членов, честное и добросовестное участие в коллективной работе.
Одним из новых понятий, связанных с деятельностью кредитных учреждений, стало поручительство. Согласно уставу, человек, желающий получить ссуду, был обязан приложить к своему прошению «ручательство трех почетных родовичей-якутов в том, что они в случае неуплаты ссуды заемщиком по каким бы то ни было обстоятельствам отвечают за него своим имуществом» [9, с. 3]. Несмотря на требования устава, работу касс часто тормозили трудности с взысканием просроченных ссуд. Якутское областное правление считало такие случаи проявлением несознательности людей, выражая по этому поводу большое сожаление. В одном из донесений была высказана следующая оценка такого отношения к общественному капиталу касс: «Населению в огромном его большинстве совершенно еще чужды понятия о том, что право пользования общим достоянием принадлежит всем членам общества и что одинаково на всех членах общества лежит и обязанность бережно относиться к этому достоянию» [10]. В проекте Устава ссудных касс Якутской области 1895 г. предлагалось определять благонадежность лица, претендовавшего на получение ссуды, коллегиально или решением специального совета. Для повышения ответственности населения за работу ссудных касс и повышения авторитета органов управления кассами губернатор В.Н. Скрыпицын предлагал заведование отделениями кассы возлагать на особые советы под председательством приходских священников, а там, где имелись церковно-приходские попечительства, советы отделений могли быть слиты с ними [11]. Такая практика привлечения к работе церковных служителей была распространена во многих российских губерниях [12].
Более высокая степень ответственности, по сравнению с требованиями к членам ссудных касс, была возложена на членов кредитного кооператива. Устав кредитного товарищества ставил цель содействия материальному и духовному благосостоянию своих членов. Кооператив брал на себя ответственность за снабжение своих членов денежными средствами путем кредитов для улучшения их хозяйства и удовлетворения других хозяйственных нужд. Товарищество также брало на себя посредничество в интересах своих членов и создание для обслуживания нужд товарищей всякого рода учреждений, предприятий как хозяйственного, так и культурно-просветительного характера [13]. Членство в ссудо-сберегательном товариществе налагало, как правило, ответственность и «круговое ручательство» за убытки кооператива не только внесенным паем, но и прочим своим имуществом. Это должно было заставить каждого члена кооператива быть бережливым и осмотрительным в употреблении занятых им денег. В свою очередь, от членов правления требовалось строже подходить к принятию решений о выдаче кредитов. Право стать членом кредитного кооператива предусматривало строгий отбор, иными словами, было «обусловлено избранием». Объяснением этому служил аргумент, что «желание пользоваться ссудами содействует распространению большей нравственности между крестьянами, ибо общий интерес членов требует, чтобы в среду их не были принимаемы люди, не заслуживающие доверия» [14].
Высокие нравственные требования предъявлялись не только к отдельным членам кредитного товарищества, но и к деятельности кооператива в целом. Так, в декабре 1911 г. на заседании Якутского областного комитета по делам мелкого кредита при обсуждении вопроса об открытии одного из крупных кредитных товариществ, действовавшего в пригороде Якутска, было представлено особое мнение вице-губернатора области В.Г. Федорова: «Начинать насаждение в Якутской области учреждения мелкого кредита открытием проектируемого Мархинского кредитного товарищества нахожу нецелесообразным и не отвечающим интересам правильной постановки в крае этого нового большого дела». Свое решение вице-губернатор аргументировал тем, что жители селения, претендующего на образование кредитного товарищества, являлись одними из наиболее зажиточных во всей области. При этом, несмотря на свою зажиточность, они претендовали на создание кредитного учреждения такого типа, организация которого не требовала с их стороны «никаких решительно жертв или хотя бы временного материального напряжения, ни малейшего шага личной самодеятельности». По словам вице-губернатора, лица, претендующие на образование кооператива, слишком просто подходили к решению рассматриваемого вопроса: «Отчего не расширить свой кредит, когда это можно сделать исключительно за счет и риск Государственного казначейства. Отчего не взять, когда дают, ничего взамен не спрашивая. Я сказал бы, это логика давно известного пассивного заемщика, который всегда охоч до казенных воспособлений» [15].
Таким образом, деятельность сословно-общественных и кооперативных учреждений мелкого кредита в Якутской области во второй половине XIX – начале ХХ в. не только внесла значительный вклад в развитие хозяйственной жизни края, но и имела огромное значение в просвещении и культурном развитии народов Якутии. Созданные в целях противостояния ростовщическому капиталу учреждения мелкого кредита нацеливались прежде всего на поддержание хозяйств, повышение платежеспособности населения и замедление социального расслоения. Помимо чисто хозяйственных целей, деятельность учреждений мелкого кредита несла в себе и просветительские цели, воспитывая в людях чувство справедливости и порядочности по отношению к обществу в целом.
Ссылки:
Список литературы От ссудных касс к кооперативному кредиту: путь к внедрению в якутское общество новых социально-экономических норм (вторая половина XIX - начало ХХ в.)
- Корелин А.П. Кооперация и кооперативное движение в России. 1860-1917 гг. М., 2009. 391 с.
- Шапкин И.Н. Представители русской религиозной мысли о хозяйстве и хозяйственной деятельности // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2018. № 1. С. 73-80. DOI: 10.26794/2226-7867-2018-7-1-73-80
- Андреев С.А. Этапы становления земской кредитной кооперации в России // Власть. 2014. № 5. С. 134-137.
- Безгина О.А. Становление кооперативного движения в Поволжье: к анализу вопроса // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5, № 2 (15). С. 60-63.
- Дроздова Е. Учреждения мелкого кредита в белорусских губерниях (1840-1917) // Банковский вестник. 2007. № 1 (366). С. 59-65.
- Мазилкина М.В. Роль земских органов самоуправления в развитии учреждений мелкого кредита в Новгородской губернии в 1870-1915 гг. // Вестник Новгородского государственного университета. 2007. № 41. С. 11-13.
- Кушнарева М.Д. Организация пушной торговли в Северо-Восточной Сибири Торговым домом «А. и М. Молчановы и Быков» // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 1 (23). С. 45-47.
- Кушнарева М.Д. Роль якутского купца Г.В. Никифорова в формировании «монополистического союза» в пушной торговле (Северо-Восточная Сибирь в начале ХХ в.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 5-2 (43). С. 120-123.
- Зензинов В.М. Очерки торговли на севере Якутской области. М., 1916. 97 с.
- Бойко П.А. Кредитные отношения в феодальной России: институт ростовщичества // Вестник экономической интеграции. 2010. № 8. С. 186-193.
- Кискидосова Т.А. Торговля русских предпринимателей с «инородцами» северной части Енисейской губернии в конце XIX - начале ХХ в. // Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России (XVII - начало ХХ в.): сб. материалов науч. конф. Новосибирск, 2014. С. 167-177.
- Lih L.T. Bread and Authority in Russia, 1914-1921. Oxford (UK), 1990. 303 p.
- Якутское хозяйство. 1914. № 12.
- Устав о ссудной кассе якутов Якутской области. Якутск, 1899. 8 с.
- Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА РС (Я)). Ф. 12-и. Оп. 2. Д. 541. Л. 154 об.
- Вычугжанин А.Л. Участие Русской православной церкви в развитии кредитной кооперации // Экономические стратегии. 2010. № 11. С. 101-108.
- НА РС (Я). Ф. 24. Оп. 1. Д. 243. Л. 21.
- НА РС (Я). Ф. 15-и. Оп. 1. Д. 1555. Л. 4-5.
- НА РС (Я). Ф. 576-и. Оп. 2. Д. 24. Л. 8.