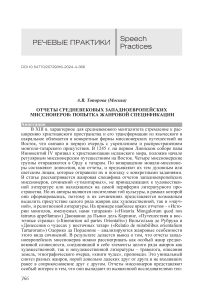Отчеты средневековых западноевропейских миссионеров: попытка жанровой спецификации
Автор: Топорова А.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Речевые практики
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
В XIII в. характерное для средневекового менталитета стремление к расширению христианского пространства и его трансформации из языческого в сакральное облекается в конкретные формы миссионерских путешествий на Восток, что связано в первую очередь с укреплением и распространением монголо-татарского присутствия. В 1245 г. на первом Лионском соборе папа Иннокентий IV призвал к христианизации исламского мира, положив начало регулярным миссионерским путешествиям на Восток. Четыре миссионерские группы отправляются в Орду к татарам. По возвращении монахи-миссионеры составляют донесения, или отчеты, и предъявляют их тем духовным или светским лицам, которые отправили их в поездку с конкретными заданиями. В статье рассматривается жанровая специфика отчетов западноевропейских миссионеров, сочинений «утилитарных», не принадлежащих к художественной литературе или находящихся на самой периферии литературного пространства. Но их авторы являются носителями той культуры, в рамках которой они сформировались, поэтому в их сочинениях представляется возможным выделить присутствие целого ряда жанров как художественной, так и «научной», и религиозной литературы. На примере наиболее ярких отчетов - «Истории монголов, именуемых нами татарами» («Historia Mongalorum quod nos tatrarus appellamus») Джованни да Пьяно дель Карпине, «Путешествия в восточные страны» («Itinerarium ad partes Orientalis») Вильгельма де Рубрука и «Донесения о чудесах у восточных татар» («Relatio de mirabilibus orientalium Tartarorum») Одорико да Порденоне - анализируются жанровые особенности этого вида сочинений. В результате делается вывод о том, что отчеты западноевропейских миссионеров можно рассматривать как особый жанр средневековой словесности, соединивший в себе элементы целого ряда жанров как художественной, так и нехудожественной литературы - травелога, описания земель, этнографического очерка, «книги чудес», проповеди. Это уникальный синтез разных жанров, порой довольно далеких друг от друга и не входивших ранее в соприкосновение друг с другом. Отчеты миссионеров представляют особый интерес и тем, что они выпадают из выявленной исследователями тенденции средневековой литературы к несамостоятельности жанров, которые существуют не сами по себе, а в рамках определенных литературных направлений (рыцарского, религиозного и т. д.), где они свободно перетекают из одного в другой, образуя жанровые комплексы, тогда как между направлениями границы достаточно четкие. В случае с отчетами миссионеров мы имеем дело с более крупными гибридными жанровыми образованиями, в которых соединяются разные литературные направления, что, вероятно, можно объяснить, с одной стороны, их «нехудожественным» характером, а с другой - средневековой тенденцией к энциклопедизму, ярко воплощенной в жанре суммы. Каждый из анализируемых жанров в той или иной мере был исследован учеными, тогда как отчеты миссионеров не изучены с точки зрения жанровой специфики, и настоящую статью стоит рассматривать как первый подход к разработке этой проблемы.
Отчеты миссионеров, травелог, «книга чудес», описание земель, этнографический очерк, теория жанров
Короткий адрес: https://sciup.org/149147201
IDR: 149147201 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-366
Текст научной статьи Отчеты средневековых западноевропейских миссионеров: попытка жанровой спецификации
Missionary reports; travelogue; mirabilia; description of lands; ethnographic account; genre theory.
Средневековое христианство имеет отчетливо выраженный миссионерский характер [Гуревич 1972, 69], проявлявшийся в стремлении к расширению христианского пространства, к его трансформации из языческого в сакральное. В XIII в. это стремление приобретает конкретные формы миссионерских путешествий на Восток, что связано в первую очередь с укреплением и распространением монголо-татарского присутствия, а также с выдвижением против крестоносцев мамлюков, рекрутировавшихся, в частности, из Золотой Орды [Садченко 2016, 28]. Европейцы боялись военных успехов монголо-татар, и страх этот был оправдан: начиная с 40-х гг. XIII в. татары нападали на польские земли, позже – на венгерские.
В 1245 г. на первом Лионском соборе папа Иннокентий IV призвал к христианизации исламского мира, положив начало регулярным миссионерским путешествиям на Восток. Четыре миссионерские группы отправляются в Орду к татарам: под руководством итальянского францисканца Джованни да Пьяно дель Карпине, португальского францисканца Лаврентия, французского доминиканца Андрея Лонжюмо и ломбардского доминиканца Асцелина. В 1249–1251 гг. Лонжюмо отвозил французского посла к хану Гуюку по повелению Людовика IX. А в 1253 г. Людовик IX посылает к сыну Батыя францисканских миссионеров Бартоломео из Кремоны и фламандца Вильгельма / Виллема де Рубрука. Продолжались миссионерские путешествия и в XIV в. (каталонский доминиканец Йордан де Северак, итальянские францисканцы Монтекорвино и Одорико да Порденоне).
По возвращении миссионеры должны были представить отчеты о результатах своего путешествия. Не все из них до нас дошли. Наиболее яркие из них принадлежат перу Джованни да Пьяно дель Карпине – «История монголов, именуемых нами татарами» («Historia Mongalorum quod nos tatrarus appellamus»); Вильгельму де Рубруку – «Путешествие в восточные страны» («Itinerarium ad partes Orienta-lis»); Одорико да Порденоне – «Донесение о чудесах у восточных татар» («Relatio de mirabilibus orientalium Tartarorum»).
Отчеты миссионеров, разумеется, не принадлежат к художественной литературе [Guzman 1996, 53–67], это сугубо «утилитарные» сочинения: донесения монахов, предъявленные по возвращении духовным или светским лицам, отправившим их в поездку с конкретными заданиями. Но их авторы являются носителями той культуры и, в частности, словесности, в рамках которой они сформировались, поэтому в их сочинениях представляется возможным выделить черты целого ряда жанров как художественной, так и научной, и религиозной литературы. Рассмотрим основные из них.
Травелог
В миссионерских отчетах без труда вычленяются жанровые особенности травелогов [Шадрина 2003]: обозначение маршрута путешествия; времени, ко- торое оно занимает; упоминание сопровождающих лиц; способов передвижения; описание новых географических пространств и народов, их населяющих; природы и климата; препятствий, встречающихся на пути; личных переживаний. Доля этих элементов в миссионерских сочинениях разная, но присутствуют они везде.
Для Джованни да Пьяно дель Карпини роль путешественника вторична, но свой рассказ он помещает в рамку путешествия. В первой главе он дает краткое и не совсем точное описание «земли татар»; в последней повествует о пути, который он совершил, направляясь к татарам, и о положении земель, через которые проехал. Свой маршрут он обозначает пунктирно. У Рубрука, напротив, маршрут представлен подробнейшим образом, а описание земель носит научный характер. Одорико да Порденоне, как правило, указывает лишь исходный и конечный пункты маршрута, а промежуточные опускает. Как отмечает Андреоз [Andreose 2020, 229], временные и пространственные указания нужны ему лишь для локализации «чудес».
Описание новых земель и народов, их населяющих, присутствует у всех миссионеров, но представлено по-разному – как гео-этнографический очерк или как описание «чудес». Опасности, приключения, личные переживания при встрече с враждебными татарами занимают не очень большое место в отчетах, но тем не менее создают колорит путешествия со всеми его атрибутами.
Описание земель / Географический очерк
Описания увиденных земель у Рубрука не просто отличаются подробностью и систематичностью, а представляют собой своего рода географический очерк. Вот как он представляет, например, Солдайю и Понт:
…в лето Господне 1253 г. седьмого мая, въехали мы в море Понта, именуемое в просторечии великим (majus) морем. Как я узнал от купцов, оно имеет в длину 1400 миль и разделяется как бы на две части. Именно около его средины находятся два выступа земли: один на севере, а другой на юге. Тот, который находится на юге, именуется Синополь, и это – крепость и гавань султана Турции; тот, который находится на севере, занят некоей областью, именуемой ныне Латинами Газария; Греками же, живущими в ней по берегу моря, она именуется Кассария, тo есть Цезария [Плано Карпини, Рубрук 1911, 66].
Рубрук знаком с географическими данными, содержащимися у Исидора Севильского и Солина, на которых он неоднократно ссылается; он узнает у местного населения названия стран и городов; он беседует с теми, кто ранее побывал в этих местах – и в результате сообщает множество ценных сведений, ранее не известных. Так, например, он выяснил, что Каспийское море не имеет сообщения с океаном, вопреки утверждениям Исидора («Море это можно обогнуть в 4 месяца, и неправильно говорит Исидор, что это – залив, выходящий из океана, ибо он нигде не прикасается к океану, но отовсюду окружен землей» [Плано Карпини, Рубрук 1911, 96]).
Рубруку важно и местоположение, и названия, и расстояния, и форма описываемых территорий. Для каждой земли он сообщает, кто ее населяет, какой веры придерживается, на каком языке говорит, ср.:
И все время, как мы оставили упомянутую выше область Га-зарию, мы ехали на восток, имея с юга море, а к северу большую степь, которая в некоторых местах продолжается на 30 дневных переходов и в которой нет никакого леса, никакой горы и ни одного камня, а трава отличная. В ней прежде пасли свои стада Ко-маны, именуемые Капчат; Немцы же называют их Валанами, а область Валанией. Исидор же называет страну от реки Танаида до Меотидских болот и Данубия Аланией, и эта страна тянется в длину от Данубия до Танаида, который служит границей Азии и Европы, на двухмесячный путь быстрой езды, как ездят Татары. Она вся заселена была Команами Капчат, равно как и дальше, от Танаида до Этилии; между этими реками существует 10 больших дневных переходов. К северу от этой области лежит Руссия, имеющая повсюду леса; она тянется от Польши и Венгрии до Тана-ида. Эта страна вся опустошена Татарами и поныне ежедневно опустошается ими [Плано Карпини, Рубрук 1911, 85].
Подобные географические пассажи мы встречаем на протяжении всего сочинения Рубрука.
Этнографический очерк
У Карпини ярко и систематично повествуется о земле татар, о людях, обычаях, нравах, государственном устройстве, способах ведения войны. Некоторые исследователи видят в сочинении Карпини, в первую очередь, гео-этнографический трактат [Pegoretti 2012, 2], а первые четыре главы рассматривают как этнографический отчет [Pubblici 2017, 38–49]. В самом деле, францисканский миссионер описывает увиденное с научной точностью, хотя одновременно и художественно. Особенно интересует его религиозный горизонт татар – их верования, религиозные обряды, гадания, специфика их богопочитания («они признают <…> единого Бога, которого они считают творцом всего видимого и невидимого, и верят в то, что он является подателем как всех благ, так и страданий в этом мире, однако они не чтут его молитвами, восхвалениями или какими-либо обрядами» [Плано Карпини 2022, 134]).
Рубрук первые главы своего сочинения (со второй по десятую) посвящает «этнографическому» описанию татар [Khanmohamadi 2014]. Он четко и одновременно очень ярко пишет об их образе жизни (кочевники, передвигающиеся в поисках пастбищ для своего скота), определяющем тип их жилищ: дома из плетеных прутьев с отверстием сверху, покрытые войлоком и помещаемые на повозки при переезде с места на место. Подробно описывает и внутреннее устройство таких жилищ – куда обращен вход, где располагается постель, какое место отводится мужу, какое – жене; отмечает непременное наличие кукол из войлока, идолов, выполняющих функции «брата хозяина», «брата госпожи», «сторожа дома». Несколько глав посвящено рассказу о еде и питье татар и об обрядах, сопровождающих их. Внешний вид татар, их прически (выбритая голова и косичка сзади у мужчин), одежда также становятся объектом внимания наблюдательного миссионера. Он не может скрыть удивления, что женщины одеваются, как мужчины, или что зимой татары носят по две шубы: одну мехом внутрь, другую – мехом наружу. Он замечает, из какого материала сделана их одежда – мех, войлок, шелк, золотая материя; описывает женские украшения (бокка); сравнивает одежду татар и турок. Поражает миссионера и то, что одежду татары никогда не стирают, а посуду не моют. В обязанности женщин входит не поддержание чистоты, а другие виды деятельности – править повозками, ставить и снимать с них дома, доить лошадей, шить одежду из шкур, делать войлок и обувь. Свадьба, семейные обычаи, похороны, законы и судопроизводство, религиозные обряды – все представлено в сочинении Ру-брука последовательно и детально.
«Книга чудес» / Mirabilia
Уходящий корнями в античность жанр «mirabilia» («книги чудес») пользовался в Средние века немалой популярностью, особенно в рассказах о путешествиях. В отчетах миссионеров он также присутствует в той или иной мере [Valtrová 2010, 154–185]. Джованни да Пьяно дель Карпини пишет о чудесах мало и с осторожностью. Если он чего-то не видел сам, он ссылается на источники информации, как при описании «чудовищ, как нас уверяли, имевших человеческий облик, но при этом у них была только одна рука, растущая из середины груди, и одна нога, и вдвоем они стреляли из одного лука. Они так быстро бегали, что лошади не могли их догнать: бегали они, прыгая на одной ноге, а когда уставали от такой ходьбы, то двигались при помощи руки и ноги, крутясь наподобие колеса. Этих людей Исидор называл циклопедами. А когда они уставали идти так, то возвращались к прежней манере бега. Однако некоторых из них убили, и, как нам говорили при дворе императора русские, которые живут у этого императора, многие из них приходили послами ко двору императора в составе их посольства, прибывшего, чтобы заключить с ним мир» [Плано Карпини 2022, 153]. Характерна здесь и ссылка на Исидора, несомненный авторитет для Карпини. Упоминает он и о чудовищах в женском облике, о мужчинах, принявших вид собак – но кратко и со ссылкой на источники (вновь это русские); а также о людях, которые живут под землей, при этом пытается объяснить это явление с «научной» точки зрения: при восходе солнца в тех краях бывает очень громкий шум непонятного происхождения. В целом же такого рода «чудеса» его не занимают, хотя в Средние века циркулировали многообразные слухи, опирающиеся как на ветхозаветные тексты (Книга пророка Иезекииля, упоминающая Гога и Магога), так и на античные и средневековые источники (Плиний, Солин, Исидор Севильский), описывающие чудовищ в восточных землях.
Рубрук еще в меньшей степени, чем Карпини, распространяется о «чудесах», которыми изобилуют сочинения других путешественников, а если и сообщает о некоторых из них, то добавляет, что слышал это от других, а сам тому не верит или относится с сомнением. Ср.: «Я осведомлялся о чудовищах или о чудовищных людях, о которых рассказывают Исидор и Солин. Татары говорили мне, что никогда не видали подобного, поэтому мы сильно недоумеваем, правда ли это» [Плано Карпини, Рубрук 1911, 134].
Одорико да Порденоне, напротив, сосредоточен на описании чудес, о чем свидетельствует само название его сочинения. В понятие чудес для миссионера входит все, что отличается от привычных для него вещей, явлений, представлений. Его внимание привлекают и обилие плодов, часто не известных ранее или редких (зеленый изюм, фиги); и новые животные (например, черепаха «больше купола св. Антония в Падуе») и растения (дыни, внутри которых живут маленькие животные); и драгоценные камни, сияющие, как пламя;
и непривычный внешний вид аборигенов (одежда, черты лица или огромные половые органы у мужчин в Индии); и несуразные обычаи (в городе Иобе прядут и вяжут не мужчины, а женщины); и «удивительнейшие идолы» размером со св. Христофора, «как его представляют художники». Экономическая, финансовая, торговая информация также нередко представлена Одорико как «чудо»: обилие продуктов (хлеба, свинины, вина, риса) и шелковых тканей, ханская шапка «немыслимой цены», бумажные деньги, доходы императора Персии, способы передачи новостей с помощью гонцов, передвигающихся на лошадях или верблюдах; обычаи бинтовать ноги девочкам и ловить рыбу с помощью чаек, привязанных к шесту. Люди с песьими головами, людоеды, секта ассасинов и прочие традиционные восточные «чудеса» тоже присутствуют в «Донесении» Одорико, хотя - надо отдать ему должное - преобладают вполне объяснимые «чудеса», которые точнее назвать «диковинами».
Проповедь
Миссионер - это всегда и проповедник, поэтому влияние жанра проповеди без труда просматривается в миссионерских отчетах. Карпини любую ситуацию рассматривает как возможность проповеди христианства, поэтому даже когда на его миссионерскую группу нападают татары с целью грабежа, он не отказывается от своего главного дела:
Мы им ответили, что мы христиане и послы господина папы, господина и отца христиан, отправившего нас как к царю, так и к князьям и ко всем татарам, потому что ему хочется, чтобы все христиане были друзьями татар и имели с ними мир; кроме того, потому что он желает, чтобы они (татары) были возвеличены у Бога на небесах. Поэтому господин папа призывает их, как через нас, так и через свою грамоту, чтобы они стали христианами и приняли веру в Бога и Господа Нашего Иисуса Христа, так как иначе они не могут спастись. Кроме того, он передает, что поражен убийством стольких людей, особенно христиан, и прежде всего венгров, моравов и поляков, которые ему подчинены. Это избиение татары совершили несмотря на то, что те им никоим образом ни в чем не вредили и не пытались против них строить козни. И так как Господь Бог был этим сильно разгневан, он призывает их впредь остерегаться этого и, наконец, покаяться в совершенном [ими] [Плано Карпини 2022, 174].
Смелость в выполнении своей миссии в сочетании с дипломатическим подходом достигла нужного результата: татары отступили.
Речь Рубрука перед Батыем также являет собой пример миссионерской проповеди:
..я <...> начал речь с молитвы, говоря: «Государь, мы молим Бога, от которого исходят все блага и который дал вам сии земные, чтобы после этого он даровал вам небесные, так как первые без последних ничтожны». Он внимательно выслушал, и я прибавил: «Знайте за верное, что не получите небесных благ, если не станете христианином. Ибо сказал Бог: “Кто уверует и крестится, спасен будет. Кто же не поверит, будет осужден”». При этом слове он скромно улыбнулся, а другие Моалы начали хлопать в ладоши, осмеивая нас, и мой толмач оцепенел, так что надо было ободрить его, чтобы он не боялся [Плано Карпини, Рубрук 1911, 98].
Никакие насмешки и угрозы татар не могут смутить или остановить миссионера, выполняющего свою задачу.
Рубрук проявляет большую искусность в спорах о вере. Так, ему пришлось обсуждать с несторианами, саррацинами и идолопоклонником туином, чья вера лучше перед лицом Мангу-хана. Несмотря на неблагоприятные условия Рубрук мужественно пытается донести до хана суть христианского учения. Он начинает с понятных для него вещей: могущество и богатство дал хану Бог, а не идолы, поэтому надо соблюдать заповеди Божии. Хану же передают, что Рубрук обвинил его в несоблюдении заповедей. Рубрук, не вступая в спор, читает хану заповеди, говоря, что тот сам должен разобраться, что он соблюдает, а что нет. Свою же задачу он видит в том, чтобы учить людей жить по воле Божией.
Одорико описывает беседу о вере францисканских мучеников, останки которых он перевез из Индии в Китай. Когда сарацины выступили с заявлением, что Христос всего лишь человек, а не Бог, брат Фома «с примерами и причинами» (типичный прием проповедников) стал доказывать богочеловече-ство Христа и «таким образом настолько ввел сарацинов в заблуждение, что они вообще никак не могли ему возразить». Раздосадованный судья спросил, что думает Фома о Мохаммеде, на что тот ответил: «Мохаммед является порождением проклятья и вместе со своим отцом – дьяволом обитает в аду; но не только он, а все кто придерживается и сохраняет его закон; так как он [закон] мерзок и неверен, противен Богу и противоречит спасению души человеческой» (глава VIII) [Одорико да Порденоне].
Заключение
Отчеты западноевропейских миссионеров, при всем их разнообразии и неоднородности, представляется возможным рассматривать как особый жанр средневековой словесности, соединивший в себе элементы целого ряда жанров как художественной, так и нехудожественной литературы – травелога, описания земель, этнографического очерка, книги чудес, проповеди. Каждый из этих жанров в той или иной мере был исследован учеными, тогда как отчеты миссионеров не изучены с точки зрения жанровой специфики, и настоящую статью стоит рассматривать как первый подход к разработке этой проблемы. Отчеты миссионеров представляют собой уникальный синтез разных жанров, порой довольно далеких и не входивших в соприкосновение друг с другом. Более того, следует отметить, что отчеты миссионеров выпадают из выявленной А.Д. Михайловым тенденции средневековой литературы к несамостоятельности жанров, которые существуют не сами по себе, а в рамках определенных литературных направлений – рыцарского, религиозного и т.д. [Михайлов 1994, 4–5]. В рамках одного направления жанры могут перетекать из одного в другой, образуя жанровые комплексы, тогда как между направлениями границы достаточно четкие. В случае с отчетами миссионеров мы имеем дело с более крупными гибридными жанровыми образованиями, в которых соединяются разные литературные направления, что, вероятно, можно объяснить, с одной стороны, их «нехудожественным» характером, а с другой – средневековой тенденцией к энциклопедизму, ярко воплощенной в жанре суммы [Топорова 2020, 211–231].
Список литературы Отчеты средневековых западноевропейских миссионеров: попытка жанровой спецификации
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972. 322 с.
- Михайлов А. Д. От редактора // Проблема жанра в литературе Средневековья / отв. ред. А.Д. Михайлов. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 1994. С. 3-6.
- Одорико да Порденоне. О чудесах света. (Текст воспроизводится по изданию: После Марко Поло: Путешествия западных чужеземцев в страны трех Индий / пер. Я.М. Света. М.: Наука, 1968. С. 170-195). URL: https://vostlit.narod.ru/Texts/rus7/ Odoriko/text1.htm (дата обращения: 20.11.2024).
- Плано Карпини, Иоанн де. История монголов. Рубрук, Вильгельм де. Путешествие в восточные страны / введ., пер. и примеч. А.И. Малеина. СПб.: А.С. Суворин, 1911. 224 с.
- Плано Карпини, Иоанн де. История монголов: текст, перевод, комментарии / под ред. А. А. Горского, В.В. Трепавлова; подгот. лат. текста П.В. Лукина; пер. с лат. А.А. Вовина, П.В. Лукина; коммент. А.А. Горского, П.В. Лукина, С.А. Масловой, Р.Ю. Почека-ева, В.В. Трепавлова; вступ. ст. А.А. Горского, В.В. Трепавлова. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2022. 382 с.
- Садченко В.Н. Расширяя границы мира, или как францисканцы открывали азиатский Восток // История и историческая память: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 13-14. Саратов: Издательство Саратовского университета, 2016. С. 28-42.
- Топорова А. В. Очерки по истории жанров средневековой религиозной литературы (Италия, XIII-XV вв.). М.: РГГУ, 2020. 304 с.
- Шадрина М.Г. Эволюция языка «путешествий»: дис.... д. филол. н.: 10.02.01. М., 2003. 396 с.
- Andreose A. Les dangers de la mer et du désert: voyage réel et symbolique dans les versions latines et françaises du récit de voyage d'Odoric de Pordenone (1330) // Atlante. Revue d'études romanes. 2020. № 12. P. 226-244.
- Guzman G.G. European clerical envoys to the Mongols. Reports of Western Merchants in Eastern Europe and Central Asia, 1232-1255 // Journal of Medieval History. 1996. Vol. XXII. №1.P. 53-67.
- Khanmohamadi Sh.A. In Light of Another's World: European Ethnography in the Middle Ages. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2014. 216 p.
- Pegoretti A. "Finis terrae". Viaggi e letteratura tra Due e Trecento // Griseldaonlain. 2012. № 12. P. 1-16.
- Pubblici L. Giovanni di Plano Carpini and the Representation of Otherness in the First Part of the Historia Mongalorum // Золотоордынская цивилизация. 2017. № 10. С. 38-49.
- Valtrova J. Beyond the Horizons of Legends: Traditional Imagery and Direct Experience in the Medieval Accounts of Asia // Numen - International Review for the History of Religions. 2010. Vol. 57. № 2. P. 154-185.