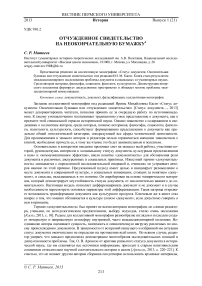Отчужденное свидетельство на неокончательную бумажку
Автор: Матвеев Сергей Рафисович
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Проблемы истории и методологии исторического знания
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
Представлена рецензия на коллективную монографию «Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство» под редакцией И. М. Каспэ. Книга стала результатом междисциплинарного исследования проблемы документа в социальных и гуманитарных науках. Среди авторов историки, философы, социологи, филологи, культурологи. Деконструкция авторского коллектива формирует дискуссионное пространство и обнажает многие проблемы междисциплинарной коммуникации.
Документность, документ, фальсификация, коллективная монография
Короткий адрес: https://sciup.org/147203455
IDR: 147203455 | УДК: 930.2
Текст научной статьи Отчужденное свидетельство на неокончательную бумажку
Заглавие коллективной монографии под редакцией Ирины Михайловны Каспэ «Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство» [Статус документа…, 2013] может дезориентировать читателя, позволив принять ее за очередную работу по источниковедению. К такому умозаключению подталкивает традиционно узкое представление о документе, как о предмете этой специальной отрасли исторической науки. Однако знакомство с содержанием и сведениями о коллективе авторов, среди которых, помимо историков, философы, социологи, филологи, политологи, культурологи, способствует формированию представления о документе как предельно общей онтологической категории, опосредующей все сферы человеческой деятельности. Для проникновения в замысел авторов и редактора нельзя ограничиться внешним знакомством с книгой, необходимо прочесть ее, к тому же чтение это будет занимательным и полезным.
Основательное и конкретное введение проливает свет на замысел всей работы, участники которой, руководствуясь интересом к «социальному статусу документа, культурным представлениям о нем» и «коммуникативным эффектам», ввели понятие «документность» для обозначения роли документа в различных дискурсивных и социальных практиках. Известный термин «документальность» связывается с определенной исследовательской инерцией и, очевидно, не устраивает авторов именно по этой причине. Предложенный подход имеет целью и инициирует размышление о месте документа в современной культуре, о социальных конвенциях, стоящих за понятием «документ», и смыслах, вкладываемых в это понятие. Он апробирован на основе эмпирического материала, который демонстрирует неустойчивость статуса документа, от исключительно важного до сомнительного. Настоящая модель позволяет дифференцировать документ и не документ и в случае необходимости пересмотреть основные параметры этой дифференциации. Такая матрица открывает возможность трансформации документа как культурного продукта. Ключевым же в книге стал вопрос о том, что именно обозначается в культуре словом «документ», если допустимо говорить о нем в принципе.
Термин «документальность» был принят не всеми авторами монографии, по словам редактора, учеными, по методологическим предпочтениям, выбору подходов, стилю очень несхожими [ Каспэ , 2013, с. 10]. Редкое для коллективной монографии разнообразие взглядов и подходов создает интересную и напряженную атмосферу внутренней, часто междисциплинарной полемики. Неодинаково авторы оценивают сущность, значимость и символическую нагрузку различных по своему происхождению документов. В зависимости от воззрений пишущего и избранной им ситуации статус документа окончательно не определен на протяжении всей книги. Во всяком случае, редактор уверяет, что замысел предполагал демонстрацию многообразия исследовательских позиций и дискуссионности проблемы. Так, О. В. Аронсон от критики размытого статуса документа в исторической науке, где им становятся все источники информации, приходит к старым позитивистским сомнениям относительно научной состоятельности истории в целом [ Аронсон , 2013, с. 220–221]. К счастью, это не мешает другим авторам сборника плодотворно использовать архивные материалы,
не углубляясь во вредную рефлексию о своей неполноценности.
Сборник состоит из четырех разделов. В первом обсуждается проблема восполнения дефицита доверия и фальсификации документа в российских бюрократических практиках и повседневной жизни, где он не обладает независимостью, а является частью системы власти. Документ как продукт канцелярского производства изначально несет в себе не достоверную информацию о действительности, а комплекс бюрократических представлений о ней, своеобразную «бумажную реальность», искаженную и редуцированную в сравнении с социальной. Это подтверждает и относительно современная практика достижения максимальной «плотности смысла» на единицу текста, о которой говорит С. И. Каспэ [ Каспэ , 2013, с. 61]. Г. А. Орлова демонстрирует то, как власть оберегает конструируемую с помощью документов историческую данность. Так, посягательство на подлинность документа было неизменно наказуемым действием, а истинность же текстов самой власти – по контрасту с верификацией неподдельности и заботой о ней – фактически не подлежала проверке [ Орлова , 2013, с. 21–25]. Таким образом, традиционный зазор между социальной реальностью и источником становится еще шире. Е. Ю. Васильева, анализируя современную российскую проблему фальсификации, говорит о практике сговора между властью и человеком при подделке документа. Причем изготовленный за деньги, а не подпольно документ не признается фальшивым ни властью, представители которой за взятку санкционируют подобный акт, ни подавляющим числом респондентов соответствующего опроса [ Васильева , 2013, с. 103–125]. Единственным сакральным документом оказывается воспетый в советской культуре паспорт, который отождествляется с его владельцем: «Нет паспорта – нет человека». Подделка «основного документа» осуждается как акт, разрушающий основы общества, и квалифицируется в качестве «криминала» большинством участников опроса.
Исследование, проведенное с позиций социологии знания, открывает масштаб и технологию включения документа в процесс создания и согласования образов реальности, а также выявляет его воздействие на функционирование самой действительности. В частности, Г. А. Орлова показывает на примере истории крестьянской дочери, ошибочно вписанной в консисторскую книгу мальчиком и потому попавшей под рекрутский набор, как просчет в нормативном акте может воздействовать на реальную человеческую судьбу [ Орлова , 2013, с. 40]. А. К. Байбурин на модели введения и функционирования идентификационных документов в СССР репрезентирует технологию согласования образов реальности, в которой меры, предложенные правительством, являются априори запрашиваемыми «трудящимися». Например, постановление правительства «О введении паспортной системы» в целях «очистки г. Москвы от контрреволюционных, кулацких, уголовных и других антисоветских элементов» подкрепляется официальными сводками об одобрении принятых мер со стороны граждан. В это же время источники личного происхождения, появление которых не могло контролироваться со стороны властей, свидетельствуют об обратном [ Байбурин , 2013, с.79–82].
Второй раздел монографии посвящен статусу документа в контексте исторической, персональной и медийной памяти. В нем авторы размышляли о динамике представлений о документе в условиях развития технических средств, переосмысляя роль медиа в формировании документальной базы. Именно в этом разделе читатель сталкивается с самыми смелыми заключениями и противоречивыми позициями, основанными на удивительно разнообразной теоретической платформе, на широком спектре идей: от понятийного аппарата семиотики до теории «документа жизни» К. Пламмера, концепций М. Фуко, П. Рикёра, М. де Серто. Так при анализе современной культурной ситуации оказались востребованы размышления М. Фуко о документе и монументе [Фуко, 2012, с. 35–59]. О. В. Аронсон, опираясь на «Археологию знания», приходит к выводу о том, что традиционные письменные исторические источники, хранящиеся в архивах, неотделимы от «вымыслов, обманов и уловок» и являются результатом превращения памятника в документ. То есть, пополняя архивы, мы неизбежно увеличиваем ложное, вымышленное, забытое [Аронсон, 2013, с. 222]. К аналогичным выводам, но в более осторожной форме, приходит Б. Е. Степанов, ссылаясь на П. Рикёра [Рикёр, 2004, с. 203–254]. Он замечает, что стремление к сохранению прошлого переплетается с «неизбежным его вытеснением», а письменная память и архив представляют собой инструменты не только фиксации, но и вытеснения [Степанов, 2013, с. 182–183]. Современная же ситуация, согласно О. В. Аронсону, благодаря новым технологиям фото- и киносъемки превращает документ в памятник, несущий в себе избыток знаков ушедшей реальности, и позволяет «видеть ушедшее время» в прямом смысле слова. С его точки зрения, документ – лишь «наивный инструмент историков», который не столько реконструирует прошлое, сколько конструирует современные взаимоотношения историка и архива. Памятник, как образование монументальное, указывает на «ограниченность и неспособность» истории установить истину факта [Аронсон, 2012, с. 220–221]. Однако Аронсон совершенно не учитывает того, что такой «памятник» для современного историка является источником не в меньшей мере, чем архивное дело или мемуары, а историческая наука, даже в формате источниковедения, выработала достаточно тонкий инструментарий по введению подобного рода материалов в исследовательскую практику своей корпорации.
Третий раздел сборника – литературный. При знакомстве с ним у читателя усиливаются или уже точно возникают неизбежные с самого начала книги коннотации между «документностью» И. Каспэ и «литературностью» Р. Якобсона (свойство текста, благодаря которому он признается принадлежащим литературе). Это сопоставление тем интереснее, чем очевиднее противоположность документа литературе – они антагонистичны, на первый взгляд, как факт и вымысел. Однако И. М. Каспэ находит смычки между ними в современном нарративе (так называемое наивное письмо), помещенном в литературный контекст, где текст получает статус документа от интерпретативных акторов в лице критиков, издателей и т.д. В романе же документ может стать материалом для книги или оказаться востребованным при осмыслении проблем исторической памяти [ Каспе , 2013, с. 271– 280]. Думается, авторы раздела упускают достаточно распространенную практику использования литературных текстов определенной эпохи специалистами по истории повседневности для более глубокого проникновения в дух времени.
Смелой является редакторская задумка включить в монографию два нестандартных в данном формате метода – опрос и эссе. Однако первый, содержащий намеренно наивные и тривиальные вопросы (например: «Что такое документ?», «В чем Вы видите специфику отношения историка к документу» и др.), вызывает недоумение как у интервьюируемых ученых, так и у читателя. Несколько проливает свет на цели эксперимента часть статьи Б. Е. Степанова, в которой он говорит о наличии лакуны в области теории документа, существование которой должны были подтвердить результаты опроса семи историков. Тем не менее автор допускает малообоснованное обобщение, утверждая, что помещенные в общий контекст высказывания сделают очевидным существование запроса на теорию документа [ Степанов , 2013, с. 179–181]. Возможно, целью интервью была своего рода «перезагрузка» устоявшихся практик говорения о документе, попытка посмотреть на эти практики отстраненно и в ином, не вполне привычном — социологическом, антропологическом — ракурсе.
Количество интервью и реакции респондентов красноречиво свидетельствуют о нерепрезен-тативности опроса в контексте возложенных на него задач. Гораздо убедительнее выглядит неискусственная рефлексия авторов сборника, каждый из которых посвятил теоретическому рассмотрению проблемы документа и «документности» несколько страниц. Такие пролегомены главным образом содержат попытку определить документ по контрасту со смежными понятиями – «бумага», «дело», «свидетельство», дифференцировать или объединить его с ними. Необходимо сказать и о представленном Б. Е. Степановым анализе глубины дисциплинарной и междисциплинарной рефлексии западной науки относительно проблематики документа как свидетельства о прошлом. На фоне мировых тенденций ощутимым становится дефицит теоретической чувствительности у представителей российской социальной и гуманитарной науки.
Отдельно стоит назвать особые причины, по которым книгу читать увлекательно. Удачно реализован формат эссе, хотя на него вроде бы не возлагалось сверхзадач. В рамках этого формата авторы делятся индивидуальным опытом работы с документом, обычно либо в предисловии (Г. Орлова), либо в тексте статьи (С. Каспе), либо в четвертом разделе монографии. Освобождённые от академических требований и обогащённые литературным достоинством, эссе читаются с огромным интересом. Нестандартное построение текстов оживляет процесс знакомства с ними. И практически сразу становится ясно, что блок этот значит куда больше, чем красивый бантик на полезном подарке. С помощью художественных средств авторы размышляют о тотальной и всеопосредую-щей проблеме документа в российской социальной реальности и о частных вариациях этой проблемы. Жизненно важный для каждого человека, становящегося пациентом, медицинский документ анализирует И. М. Каспэ. О противозаконных действиях (рейдерском захвате), приобретающих флер легитимности при наличии фальсифицированных документов, сообщается в тексте М. и Е. Шульман [Шульман, 2013, с. 375–380]. История о документации рейдерского захвата имела тра- гическое для одного из авторов развитие.
Рефлексия, предложенная в форме эссе, позволяет определить гипертрофированную роль «бумажки» в жизни каждого из нас. Документ опосредует поощрение и наказание, протоколирует и легитимирует рождение и смерть, брак и развод, получение образования и наличие работы, обретение и потерю собственности, мельчайшие повседневные сделки купли продажи и т.д. Один из авторов охарактеризовал такую ситуацию «документационной оргией» [ Шульман , 2013, с. 375], символизирующей триумф государственного порядка над индивидуумом. Ситуация эта наталкивает на мысль о статусе и правах человеческой личности, не обладающей никакими документами, а значит, не способной ничего подтвердить и доказать, даже свое существование. Авторы, неоднократно подчеркивая тотальную роль документа в жизни человека, тем не менее убедительно доказывают, что документ не способен функционировать в любых контекстах и выполнять роль связки между ними. Прочтение и интерпретация его невозможны в отрыве от адресанта, несмотря на частое присутствие некой универсальной адресации или ее видимости.
В заслуги редактора монографии помимо прочего входит конструкция, а, вернее, деконструкция авторского коллектива: он был сформирован не по традиционному принципу дисциплинарного родства или близости интересов, а исходя из стремления максимально проблематизировать предметное поле (а вместе с этим и работу над изданием). Такой подход требует большой смелости и еще больших усилий по «сбору» монографии. Может быть, это имела в виду И. М. Каспэ, когда говорила о книге как результате продолжительной и непростой работы. Надо признать, что результат этой работы впечатляет. Предложенная конфигурация исследователей позволила сформировать оригинальное дисциплинарное пространство, напоминающее лабиринт. Разнообразие подходов и вариантов пути не позволяет успокоиться относительно существования теории документа, которая устроит всех и станет сводом прописных истин, той самой бумажкой (пусть даже объемом с книгу), о которой мечтал профессор Преображенский и обладание которой закроет тему документа. Дискурсивные практики и реальность в очередной раз оказались сложнее сухой теории. Без преувеличения можно сказать, что книга получилась живой, интересной и непредсказуемой с первых до последних страниц, что количество людей, присутствие которых чувствуешь при чтении, значительно превышает число авторов, а затронутые проблемы требуют дальнейшей над ними работы.
Список литературы Отчужденное свидетельство на неокончательную бумажку
- Рикёр П. Память, история, забвение/пер. с фр. И. И. Блауберг, И. С. Вдовина и О. И. Мачульской. М., 2004.
- Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?: Кол. монография/под ред. И. М. Каспэ. М., 2013.
- Фуко М. Археология знания/пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой. СПб., 2012.