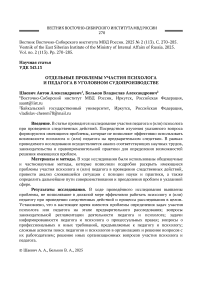Отдельные проблемы участия психолога и педагога в уголовном судопроизводстве
Автор: Шаевич А.А., Бельков В.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье проводится исследование участия педагога и (или) психолога при проведении следственных действий. Посредством изучения указанного вопроса формируются имеющиеся проблемы, которые не позволяют эффективно использовать возможности психолога и (или) педагога на предварительном следствии. В рамках проводимого исследования осуществляется анализ соответствующих научных трудов, законодательства и правоприменительной практики для определения возможностей решения имеющихся проблем. Материалы и методы. В ходе исследования были использованы общенаучные и частнонаучные методы, которые позволили подробно раскрыть имеющиеся проблемы участия психолога и (или) педагога в проведении следственных действий, провести анализ сложившейся ситуации с позиции науки и практики, а также определить дальнейшие пути совершенствования и преодоления проблем в указанной сфере. Результаты исследования. В ходе проведённого исследования выявлены проблемы, не позволявшие в должной мере эффективно работать психологу и (или) педагогу при проведении следственных действий и процесса расследования в целом. Установлено, что в настоящее время имеются проблемы определения задач участия психолога или педагога на этапе предварительного расследования; вопросы законодательной регламентации деятельности педагога и психолога; задачи информированности педагога и психолога о процессуальных правах; вопросы о профессиональных и иных требований, предъявляемые к педагогу и психологу; сложные аспекты поиск педагогов и психологов в организациях и решение вопросов с их работодателем; решение иных организационных вопросов участия психолога и педагога. Выводы и заключения. В завершении статьи авторы приходят к выводам о том, что указанные проблемы подлежат только комплексному решению. В качестве такового решения предлагается: качественное закрепление в различных письменных источниках всей совокупности сведений, необходимых для эффективной работы психолога и (или) педагога при расследовании преступлений; изменение подхода со стороны следственных и иных правоохранительных органов к роли психолога и (или) педагога как к лицу, способному повысить эффективность расследования преступления; понимание психологом и педагогом своей роли при проведении конкретного следственного действия или в процессе расследования в целом.
Уголовное судопроизводство, тактико-криминалистическое обеспечение, психолог, педагог, несовершеннолетний, следственные действия
Короткий адрес: https://sciup.org/143184508
IDR: 143184508 | УДК: 343.13
Текст научной статьи Отдельные проблемы участия психолога и педагога в уголовном судопроизводстве
Среди исследователей в области криминалистики и уголовного процесса проблемы производства следственных действий с участием несовершеннолетних, по-прежнему, вызывают повышенный интерес, что отражается в достаточно большом количестве исследований и публикаций по этой тематике. В научных работах, посвященных участию несовершеннолетних в уголовном процессе, обязательно рассматриваются вопросы использования педагогических и психологических знаний при проведении следственных действий. Важно подчернить, что первое упоминание о привлечении педагогов и психологов в уголовном судопроизводстве был отражено ещё в ходе судебной реформы 1864 года [1, c. 133], однако дискуссии относительно некоторых проблем в этой сфере не теряют своей актуальности и по настоящее время. Современные авторы научных работ выражают свою позицию, отражаемую в нескольких страницах, абзацах или даже целых параграфах, отмечая например, что тактико-криминалистическое обеспечение допроса несовершеннолетнего продолжает совершенствоваться, а разрабатываемые тактические рекомендации, с учетом складывающейся ситуации, позволяют преодолеть скрытый или открытый конфликт и получить сведения, имеющие значение для уголовного дела [2, c. 52].
Вопросы участия педагога и (или) психолога при производстве отдельных следственных действий или всего процесса расследования в настоящее время имеют множество проблем различного рода. Пристальное внимание ученых и активная научная дискуссия не привела к устранению имеющихся проблем в правоприменительной практике, что крайне негативно влияет на эффективность всего уголовного судопроизводства. В процессе исследования данного вопроса были установлены следующие проблемы.
-
1. Задачи участия психолога или педагога на этапе предварительного расследования.
Стоит отметить, что публикации по этому вопросу достаточно противоречивы, что может привести к неправильному пониманию функций педагога и (или) психолога, а также его профессиональных задачах в уголовном процессе. Как отмечает Е. А. Зайцева, несмотря на всю очевидность позиции законодателя по вопросу о дифференциации форм применения специальных познаний в условиях действующего нормативного регулирования, в ряде научных публикаций, а также на уровне диссертационных исследований продолжаются дискуссии о целесообразности придания статуса самостоятельных процессуальных участников таким сведущим лицам, как педагог и психолог [3, c. 10].
Отсутствие четкого понимания цели и задач педагога (психолога), например, во время проведения такого следственного действия как допрос является одной из причин негативного отношения некоторых правоприменителей к участию данных лиц в уголовном процессе. Одной из основных проблем, вытекающих из этой ситуации, является непонимание значимости участия педагога и (или) психолога в допросах несовершеннолетних со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые часто воспринимают это лишь как формальное требование закона. Такой подход, в свою очередь, приводит к пассивному поведению педагогов и (или) психологов, которое сводится к молчаливому присутствию при производстве следственных действий или позднее в суде. Более того, подобное отношение выражается в достаточно грубой формулировке, которую часто можно услышать, как от привлекающей, так и от привлекаемой сторон, когда отмечают, что «их (психологов и педагогов) приглашают принять участие при производстве допроса в качестве мебели». Однако законодатель безусловно закладывает совершенно иной смысл участия указанных лиц в процессе расследования, иначе логическая целесообразность и последующая эффективность участия вызывает только закономерные вопросы. В этой ситуации во многом сложившаяся практика, по сути, вычеркивает таких лиц из числа самостоятельных участников уголовного процесса.
Как верно отмечается в исследованиях по тактике допроса, успех следственного действия во многом зависит от уровня коммуникативных навыков допрашивающего, включая умение понимать людей, их интересы и особенности социализации [4, с. 142]. Это особенно актуально при работе с несовершеннолетними, где психолог или педагог играют ключевую роль в установлении доверительного контакта и создании комфортной обстановки для получения достоверных показаний.
При этом исходя из смысла, заложенного законодателем в нормах уголовнопроцессуального закона, осуществляемую психологом и (или) педагогом деятельность при производстве следственных действий, принято делить на две составляющие:
-
- на поддержку несовершеннолетнего и смягчение воздействия травмирующих психику факторов допроса,
-
- на облегчение работы следователя в получении и адекватном использовании информации, как об этом пишет ряд авторов - оказывать помощь в преодолении противодействия со стороны несовершеннолетнего [5, с. 26].
-
2. Законодательная регламентация деятельности педагога и психолога.
По сути, эти два направления не вызывают каких-либо сомнений, однако, на самом деле можно выделить и третью составляющую, о которой в частных разговорах говорят сами педагоги и психологи, имеющие богатый опыт участия в подобных действиях. Речь идет о том, что иногда приходится иметь дело с такими категориями несовершеннолетних, при выстраивании коммуникации с которыми, помощь психолога для «смягчения воздействия травмирующих психику факторов допроса» нужна не допрашиваемому, а допрашивающему (чаще всего это молодая девушка, недавно закончившая институт). Однако в любом случае решаемая задача будет связана с неоценимой помощью в обеспечении психологического контакта с участниками процессуального действия [6, c. 105].
При этом, постановка и реализация этих выше указанных задач будет существенно различаться в зависимости и от возраста (иногда каждый год–два имеет большое значение) и от процессуального статуса допрашиваемого. Стоит отметить, что в научной литературе, на данный момент, наблюдается некоторый «перекос» в сторону исследования вопросов участия педагогов (психологов) в допросах несовершеннолетних, выступающих в качестве подозреваемых, относительно допросов несовершеннолетних, выступающих в качестве свидетелей и потерпевших. Кроме того, эти проблемы могут отличаться и на разных этапах уголовного процесса, так самый первый допрос в ходе предварительного расследования, и допрос уже в ходе судебного разбирательства, представляют собой разные ситуации. Большое значение также имеет квалификация совершенного преступления и степень участия каждого лица в реализации преступного умысла, однако это уже можно отнести к частным случаям, как и другие обстоятельства конкретного уголовного дела.
Развивая мысль о выполняемых функциях при производстве расследования в целом, можно отметить, что помощь педагога и (или) психолога может иметь важное значение не только при допросе. При производстве следственных действий (любых), проводимых как в условиях конфликтных, так и бесконфликтных ситуаций с тактической точки зрения участие психолога и (или) педагога может способствовать получению и закреплению необходимых сведений. Конечно, в первую очередь речь идёт об очной ставке (там конфликт всегда имеется между сторонами). Однако и при проведении проверки показаний на месте участие психолога и (или) педагога может позволить несовершеннолетнему чувствовать себя более комфортно и как следствие – дать максимально объемные сведения относительно выполняемых действий и роли каждого лица в совершении преступления. В дополнение можно отметить, что у следователя (дознавателя) посредством использования потенциальных возможностей экспертных оценок огромных массивов информации, находящейся в открытом доступе, имеется возможность прогнозирования и аналитики уголовнопроцессуальной деятельности [7, c. 84], в том числе проводимой при активной роли психолога и (или) педагога. Так, известна ситуация, когда в ходе очной ставки подозреваемый, в моменты пока следователь не смотрел в его сторону, жестами и мимикой угрожал несовершеннолетнему подозреваемому, в результате чего тот полностью отказался от своих прежних показаний. Психолог это видел и сообщил следователю только после окончания следственного действия. Можно признать, что свою основную задачу в ходе следственного действия он не выполнил, в результате чего пришлось потратить много сил и времени на исправление ситуации.
Исходя из всего этого педагог и (или) психолог не должен быть пассивным, являясь лишь молчаливым статистом. При этом и сам следователь (дознаватель) очевидно должен быть готов к активной роли такого лица (лиц) как специалиста, способного повысить эффективность проводимого следственного действия. Помочь несовершеннолетнему подобрать нужные слова, описать конкретную ситуацию, настроить на работу и дачу показаний, в том числе в условиях конфликтного поведения другой стороны, предопределять корректное поведение и субординацию, а также решать иные полезные задачи. В противном случае результаты участия педагога и (или) психолога при производстве следственного действия просто нулевые.
Как верно указывает О. В. Трубкина, в некоторых сложных конфликтных ситуациях расследования использование специальных психологических знаний «…принесет наибольшую пользу в случае постоянного взаимодействия следователя с одним либо несколькими специалистами-психологами при непрерывном сопровождении расследования уголовного дела, при тесном взаимодействии и обмене информации как при производстве следственных действий, так и изучении всех документов, характеризующих личность несовершеннолетнего, составлении его психологического портрета с признаками фрустрации и ее интенсивности, выявлением фрустраторов, их природы, характера, сопутствующих субъектов, возможности и способов нейтрализации» [8, c. 222].
При изучении вопроса о тактических рекомендациях участия указанных лиц безусловно следует опираться на уголовно-процессуальное законодательство, которое в совокупности с тактическими приемами позволяет достигать высоких результатов расследования по любому преступлению [9, с. 75]. По сути эффективность разработок тактических рекомендаций по этим вопросам, в некоторой степени (нельзя, пожалуй, назвать её решающей, но не стоит и игнорировать её значимость) зависит от имеющихся противоречий в понимании и трактовке законодательной регламентации в этой области. Перечислим некоторые из этих проблем, которые служат предметом дискуссий в среде ученых процессуалистов и не только:
-
1. Психолог и педагог – это новая самостоятельная процессуальная фигура или это специалист [10, с. 183]. Согласно ст. 58 Уголовно-процессуального кодека Российской федерации 7 специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях), профессиональные компетенции которого, законодатель счел необходимым обозначить в данном случае [3, с. 12].
-
2. В соответствии с ч. 1 ст. 280 УПК РФ при производстве допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, имеющего физические или
- психические недостатки, в судебное заседание привлекается психолог и (или) педагог, т. е. имеются все основания для участия психолога и педагога одновременно.
-
3. При допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, в согласно ч. 3 ст. 425 УПК РФ, предусматривается уже участие только педагога или только психолога, что позволяет некоторым авторам отмечать непоследовательность и произвольность правовых решений, принятых законодателем, представляется, что в ст. 425 УПК РФ предусмотрены меньшие правовые гарантии при проведении допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в сравнении со ст. 280 УПК РФ, регламентирующей допрос потерпевшего и свидетеля [11, с. 395-396].
-
4. Также вызывают дискуссии такие аспекты как критерии допуска психолога или педагога к участию в проведении следственных действий, их права и обязанности, а некоторые авторы полагают: «… что законодатель должен определить функции педагога и психолога и цели их участия именно в процедурах с несовершеннолетними» [12, c. 89].
-
3. Информированность педагога и психолога о процессуальных правах.
-
4. Профессиональные и иные требования, предъявляемые к педагогу и психологу.
Скорее всего некоторые из этих моментов невозможно или нецелесообразно жестко регламентировать на законодательном уровне, так, например, установленные критерии по образованию, стажу и т.п. могут значительно осложнить организацию участия подобных лиц в уголовном судопроизводстве. Однако вспоминается ситуация с появлением в УПК РФ нового вида доказательств – «заключение специалиста» в 2003 году и те многостраничные дискуссии, которые развернулись среди ученых относительно того, чем должно отличаться заключение специалиста от заключения эксперта по оформлению, содержанию, назначению и т.п. и зачем оно вообще необходимо. Нельзя сказать, что Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»8 (далее – ППВС РФ) окончательно поставило точку во всех этих обсуждениях, но определенную ясность оно всё же внесло. В данном случае подобное разъяснение может помочь и будет предпочтительным решением, сразу по нескольким причинам. При изучении какой-либо проблемы научными работниками всегда следует помнить, что в своей работе практические работники руководствуются официальными документами (статьями законов, а не статьями журналов, пусть даже рецензируемых ВАК). Упомянутый выше источник – ППВС РФ является, с одной стороны, официальным документом, который отражает официальную точку зрения высшего органа судебной власти в государстве, а не частное мнение ученого, что дает все основания ссылаться на него в правоприменительной деятельности. С другой стороны – он не является источником права, т. е. если в нем будут указаны рекомендованные критерии, которым должен соответствовать привлекаемый психолог (педагог), а следователь не сможет найти идеально отвечающего всем этим рекомендациям специалиста (но отвечающего требованиям УПК РФ), оснований для признания данного следственного действия недействительным по формальным признакам не будет.
К сожалению, и такая проблема имеется в правоприменительной практике на настоящее время. При этом какая-то определенная часть этого вопроса лежит на поверхности и в принципе можно ограничиться лишь ей. Речь о том, что педагоги и (или) психологи по роду своей профессиональной деятельности, как правило, не владеют знаниями в области уголовно-процессуального права и не всегда понимают свои функции при проведении следственных действий. Для этого следователю (дознавателю) необходимо не только официальное зачитывание соответствующих положений уголовно-процессуального кодекса о правах и обязанностях (этот аспект не всегда выполняется на практике в полном объеме), но и подробное разъяснение процедурных и иных аспектов участнику судопроизводства в случае наличия уточняющих вопросов. Обычно, в силу нехватки времени или низкой организации работы такие вопросы являются большой редкостью, что приводит к непониманию собственных прав и обязанностей.
Однако другая часть проблемы находится гораздо глубже. Она заключается в постановке проблем следователем (дознавателем), которые призвано решить участие педагога и (или) психолога при производстве следственных действий. В данном случае под проблемой понимаются общие, типовые трудности и противоречия, возникающие в связи с особенностями участия несовершеннолетнего в следственном действии, которые вытекают из его возрастных особенностей, а также частный набор задач и вопросов, которые необходимо решить в данном конкретном случае. И вот об этом крайне редко задумывается следователь (дознаватель).
Следователь (дознаватель) на этапе планирования должен определять цели и задачи проведения конкретного следственного действия, и исходя из этого, прогнозировать выполняемую роль участников события. В отсутствии чёткого понимания, заинтересованности, внятной тактической роли и поддержки от «организующей стороны» и психолог и (или) педагог не способны реализовать имеющийся профессиональный потенциал при проведении следственного действия.
В настоящее время соответствующие требования, предъявляемые для возможности участия конкретного лица в качестве педагога или психолога отдельно не указаны.
В действующем законодательстве только в 2013 году путём внесения дополнений в ст. 5 УПК РФ было впервые в российском уголовном судопроизводстве закреплено понятие педагога [13, c. 129]. Согласно п. 62 ст. 5 УПК РФ это – педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся.
Определение психолога в УПК РФ отсутствует.
Таким образом возникает множество вопросов в связи с возможностью участия педагога и (или) психолога в проведении следственного действия и вот некоторые из них:
-
• Образование. В законодательстве отсутствует упоминание о наличии у такого лица высшего образования, поэтому вопрос об уровне образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) тоже можно считать открытым. По сути не решенным является вопрос о возможности (или не возможности) участия лица, имеющего средне специальное образование.
-
• Стаж. Требований к стажу тоже не установлено законодательством. Насколько это является обоснованным вопрос весьма открытый, но думается, что малоопытный психолог или педагог навряд ли смогут эффективно выполнять свою функцию.
-
• Требования к занимаемой должности и организации. Касаемо педагога указано, что он должен быть работником образовательной организации (без каких -либо дополнений, хотя образовательных организаций существует огромное множество и специфика их работы может существенно различаться). К психологу таковые требования отсутствуют. Что касается занимаемой должности, то педагог должен осуществлять обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся. Законодательные требования к занимаемой психологом должности не установлены. При этом можно задаться вопросом и о том, какой период времени конкретное лицо работает на занимаемой должности.
-
5. Поиск педагогов и психологов в организациях и решение вопросов с их работодателем.
-
6. Решение иных организационных вопросов участия психолога и педагога.
Если отталкиваться от закона, то воспитатель дошкольного учреждения, который два дня работает на своей должности, может вполне участвовать в проведении следственного действия. К психологу вообще нет ни каких требований, что является в корне не верным.
Говоря об этой проблеме можно понять логику законодателя, который не хотел бы сужать рамками указанных требований возможности для поиска лица для его участия в следственных действиях. И вполне возможно, что в тексте УПК РФ таких требований может и не быть, но они могут содержаться, например, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В конечном счете, указанные обстоятельства несут потенциальную угрозу в виде рисков эффективности участия педагога и (или) психолога в проведении следственного действия, поскольку такой человек в силу своего образования, стажа, занимаемой должности по сути может не являться носителем необходимых профессиональных компетенций и не обладать должными навыками.
Как уже упоминалось ранее у следователя (дознавателя) должен быть план проведения следственного действия, исходя из которого определяется роль психолога и (или) педагога в его реализации. Иными словами, если педагог и (или) психолог нужен для формального выполнения требований УПК РФ и пассивного поведения, тогда в принципе подойдет любое лицо. В таких случаях следователь (дознаватель) обращается в образовательное учреждение и (или) организацию (подразделение), в котором имеются психологи. Далее эта организация направляет психолога и (или) педагога, который принимает участие в следственном действии и в принципе этот вариант всех устраивает.
Совсем другое дело, когда следователь (дознаватель) стремится провести следственное действие с максимальной эффективностью и для этих целей нужно лицо, обладающее необходимыми требованиями. И в таких случаях «сухое» обращение в организацию весьма часто приводит к тому, что отправляют не самого эффективного работника, ибо самые нужные чаще всего плотно задействованы в самом рабочем процессе. Поэтому в тактических целях лучше всего следователю (дознавателю) изначально определиться, какого конкретного человека он хотел бы видеть при производстве следственного действия. Например, при вопросе об участии педагога Самиулина Я. В. заметила, что в большинстве случаев приглашаются педагоги из учебного заведения, в котором учится несовершеннолетний, что является весьма правильным, поскольку несовершеннолетний и педагог знакомы, что с большей степенью повлечет положительное установление психологического контакта [14, c. 66]. Если же такой психологический контакт прогнозируется следователем (дознавателем) как не самый лучший (предварительно выяснив особенности личностных отношений между педагогом и несовершеннолетним), то может быть приглашен иной педагог, с которым результативность следственного действия может быть выше. Например, это может быть педагог, работающий в учреждении, в котором несовершеннолетний посещает занятия в спортивной сфере или дополнительного обучения по иностранным языкам или иным дисциплинам (например, при подготовке к ЕГЭ). Аналогичный подход следует распространить при поиске психолога, когда в безусловном приоритете выступает школьный психолог.
Если же психолог и (или) педагог, которого знает несовершеннолетний, не имеют с ним должного контакта, тогда следует воспользоваться услугами частнопрактикующих специалистов или работников организаций, отталкиваясь при формулировании критериев поиска на профессиональные качества. В любом случае решение задачи по поиску хорошего работника для проведения следственного действия является весьма сложной, поскольку для её достижения потребуется решение организационных вопросов и с его работодателем (отправить запрос или повестку, подобрать время проведения действия, которое бы устраивало стороны и многое другое). Однако полученный результат эффективно проведённого следственного действия выступит в качестве вознаграждения за проделанную работу.
При этом как обратная сторона медали на практике возникает вопрос, когда какой-либо педагог и (или) психолог один раз принял участие в следственном действии, а потом его номер телефона распространился по всему отделу и теперь его одолевают постоянные просьбы вновь и вновь оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов. В случае, когда такой педагог или психолог сам с радостью готов принимать участие в следственных действиях на регулярной основе, то ситуация является успешным примером взаимодействия, однако чаще всего указанные работники совсем не хотят это делать в постоянном режиме, а отказать не удобно – эффективность такого участия с тактической точки зрения резко снижается.
Таких вопросов действительно предостаточно на практике, складывающейся по -разному на территории разных субъектов Российской Федерации. Среди подобных вопросов следует выделить:
-
• Оплата участия в проведении следственного действия. Вопрос о суммах выплат можно назвать дискуссионным, однако надо понимать, что хороший работник получает достойную оплату своего труда. И в случае, если он поедет рано утром на проверку показаний месте за 80 км от районного центра по гравийной дроге, такая оплата должна быть как минимум не ниже, чем на его основном месте работы. При этом важно выплачивать причитающееся вознаграждение в максимально разумный срок. Не должно возникать ситуаций, когда в течение длительного времени ожидают положенных выплат за участие в проведении следственного действия.
-
• Транспортные проблемы. Этот вопрос особенно актуален для районных и межрайонных подразделений, в которых фактор расстояний играет важную роль. Например, следователю, который находится в районном центре, необходимо провести допрос несовершеннолетнего, и он решает привлечь для этого педагога из образовательного учреждения, в котором обучается сам несовершеннолетний. Для этого потребуется проехать 50 км по грунтовой дороге, потратив на это час–полтора и потом аналогичным образом вернуться назад. Естественно, что желающих принять участие крайне мало.
Вышеуказанные проблемы в своей совокупности выступают в качестве фактора, который самым негативным образом сказывается на выполнении психологом и (или) педагогом задач в рамках уголовного судопроизводства. Решение этих проблем видится в выполнении комплекса действий, направленных на достижение общей цели с разных векторов для получения итогового результата. Безусловно, таких решений может быть много, однако фундаментальное значение могут иметь только три из них, затронутые в этой статье:
-
1. Качественное закрепление в различных письменных источниках всей совокупности сведений, необходимых для эффективной работы психолога и (или) педагога при расследовании преступлений. Речь идет об уголовно-процессуальном законодательстве, постановлениях пленума Верховного Суда Российской Федерации, методических рекомендациях, утверждённых приказами различных министерств и ведомств, а также иных источниках. При этом каждый такой источник должен давать максимально информативные положения, которые смогут найти одобрительные отклики у правоприменителей. Например, методические рекомендации следователя (дознавателя), использующиеся в конкретном районе или субъекте Федерации должны содержать перечень организаций, в которых работают психологи и (или) педагоги, чья работа в уголовном судопроизводстве показала высокую эффективность. Смысл максимально простой - чем меньше будет пробельности информации для подготовки и проведения следственного действия с участием таких лиц - тем выше результативность.
-
2. Изменение подхода со стороны следственных и иных правоохранительных органов к роли психолога и (или) педагога как к лицу, способному повысить
-
3. Понимание психологом и педагогом своей роли при проведении конкретного следственного действия или в процессе расследования в целом. Для этого необходима работа сотрудников правоохранительных органов, которые способны чётко обозначить цели проведения следственного действия и поставить конкретные задачи психологу и (или) педагогу. В этой связи следователю (дознавателю) на стадии подготовки стоит использовать моделирование, которое позволяет познать неопознанное посреди построения и использования мысленных (электронных, физических) моделей [16, c. 88], что в конечном счете влечёт возможность прогнозирования действия отдельных лиц при последующем проведении следственного действия. При этом необходимо учитывать, что психолог и педагог могут быть не знакомы с уголовным судопроизводством и деятельностью правоохранительных органов, то есть нужно быть готовым к скрупулёзной работе с людьми со множеством уточняющих вопросов. В свою очередь от психологов и педагогов потребуется уточнять поставленную задачу и задавать дополнительные вопросы, если что-то оказалось не ясным или не до конца понятным и быть психологически готовыми к выполнению активной роли при проведении процесса расследования для максимальной эффективности планируемого результата. Формальный подход к выполнению обязанностей и безынициативность в поведении должны стать основанием к тому, что более это лицо не будет привлекаться к участию в расследовании преступления.
эффективность расследования преступления. Здесь стоит отметить, что исходя из криминалистической классификации участников уголовного судопроизводства в рамках двух основных групп (субъектов криминалистически значимой информации и субъектов криминалистических знаний) [15, с. 57] следователь (дознаватель) состоят вместе с психологом и педагогом в одной группе - группе субъектов криминалистических знаний и должны общими усилиями решать поставленные задачи, по сути помогая друг другу. При этом положительно решить данный, который скорее лежит в области психологии и организации труда, возможно путём, например, создания информационных писем об успешной практики использования таких лиц при проведении следственных действий. Когда у следователя (дознавателя) будет иметься возможность сравнивания своих результатов (в первую очередь не самых успешных) с результатами других лиц, которые сумели добиться более высоких показателей в схожей ситуации - тогда можно будет сказать, что «лёд тронулся». А в случае закрепления в информационном письме пошагового и весьма ясного (в том числе и для малоопытных сотрудников) алгоритма действия для получения качественного результата можно будет констатировать, что «лёд растаял». Плюс, безусловно, важно проведение на систематической основе работы по повышению квалификации работников правоохранительных органов, осуществляющих взаимодействие с психологом и (или) педагогом.
В заключении хочется отметить, что это только некоторые вопросы и пути их решения, которые тормозят эффективное использование положений законодательства в части участия педагога и (или) психолога в проведении следственного действия. Решение поставленных задач и развитие тактики участия педагога и (или) психолога в уголовном судопроизводстве самым благоприятным образом отразятся в практической сфере, что существенно повысит уровень результативности расследования.