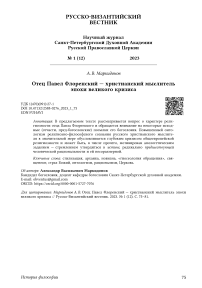Отец Павел Флоренский - христианский мыслитель эпохи великого кризиса
Автор: Маркидонов Александр Васильевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 1 (12), 2023 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемом тексте рассматривается вопрос о характере религиозности отца Павла Флоренского и обращается внимание на некоторые исходные (отчасти, пред-богословские) посылки его богословия. Повышенный онтологизм религиозно-философского сознания русского христианского мыслителя в значительной мере обусловливается глубоким кризисом общеевропейской религиозности и может быть, в числе прочего, мотивирован апологетическим заданием - стремлением утвердиться в истине , радикально предшествующей человеческой рациональности и ей несоразмерной.
Стилизация, архаика, новизна, «гносеология обращения», священное, страх божий, онтологизм, рационализм, церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/140297564
IDR: 140297564 | УДК: 1(470)(091):27-1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_1_75
Текст научной статьи Отец Павел Флоренский - христианский мыслитель эпохи великого кризиса
«Выявление религиозных переживаний в форме архаического православия есть стилизация», — писал Н. А. Бердяев в своей остро критической по отношению к о. П. Флоренскому статье1. Имея в виду «Столп и утверждение Истины», Бердяев утверждает: «Нет (в этой книге. — А. М. ) ничего простого, непосредственного, ни одного слова, прямо исходящего из глубины души. Такие книги не могут действовать религиозно…»2
Однако свести вопрос о характере духовности о. Павла Флоренского к «стилизации» было бы, на наш взгляд, упрощением. Хотя бы уже потому, что еще задолго до «Столпа и утверждения Истины» сам Флоренский в докладе-реферате «Догматизм и догматика» говорил об этой самой «жуткой мертвенности» (Н. А. Бердяев) — стилизации, схоластизации, безжизненной формализации в богословии: «Пересыхает горло, жжет все нутро, нестерпимей и нестерпимей распаляется томительная жажда по догматике. Но… взамен догматики мы имеем догматизм»3.
«Слишком чувствуются счеты с собой, — снова упрекает Бердяев, — бегство от себя, боязнь себя…»4
Но разве не как суд над нами совершается в нас вера, разве не требует она от нас все новых и новых усилий обращения — уже и после того, как мы уверовали? А ведь, как верно замечает по поводу «Столпа и утверждения Истины» о. Г. Флоровский в своей — тоже почти исключительно критичной — главе об о. Павле, «вся гносеология Флоренского почти сводится к проблеме обращения»5.
Действительно, уже в упомянутом выше раннем своем реферате П. А. Флоренский пишет: «Разве мы знаем Бога, как истинного, как основание всякой истины и всякой достоверности? И имеем ли мы со своей стороны какое бы то ни было отношение к Живому Центру нашей религии?»6
«Гносеологическое» не только неотделимо здесь от нашего «отношения к Живому Центру нашей религии», но в этом именно отношении и осуществляется.
Также точно и «историческое» (а устойчивый упрек Флоренскому в а-историз-ме — один из главных) — «историческое» — не в наличии количественной фактурно-сти истекшего и текущего (к каковой мало причастно, например, и монашеское сознание), а в чувстве времени , в способности проникать в смысл происходящего. И этого у о. Павла Флоренского не отнять: «Теперь более, нежели когда-либо, своевременно выяснить, — говорит он лет за десять до революционных потрясений, — как мы относимся к христианскому миросозерцанию. Думается, близок час, когда невозможно уже будет оставаться полу-христианином, полу-атеистом, „не холодным и не горя-чим“, а только „теплым“, тепловатым, когда придется волей-неволей решительно выясниться и стать либо за , либо против истинной свободы»7.
А его «архаика», его повышенное внимание к осязаемой онтологичности — культа, богословской мысли, в целом языка и речи и т. д., — как представляется, могут быть объяснены и правильно восприняты только в контексте того глубочайшего кризиса европейской христианской рациональности, который, в конце концов, разразился мировой войной. Ведь, например, импульсом для поворота к радикальной теологии К. Барта, отказавшегося от всякой аналогии (кроме аналогии веры) между Богом и тварью, Богом и обнаружившей фальшивость своих духовных оснований человеческой культурой, — импульсом для этого поворота стал факт подписания крупнейшими германскими учеными (в том числе А. Гарнаком) открытого письма в защиту

Священник Павел Флоренский с семьей перед своим отъездом на фронт Первой мировой войны, 1915 г.
как ошибаются историки, — пишет он в
военных действий Германии («Манифест девяноста трех» 4 октября 1914 г.) «Умер бог» либеральной теологии, «бог» европейского христианства с его рационально-моралистическими иллюзиями, с его «психологизмом» и «историзмом», посредством которых, в частности, знание все более и более соревновало бытию . «То, чему нас учит пример христианства, которое благодаря влиянию историзиру-ющей обработки стало равнодушным и неестественным в ожидании того момента, пока доведенная до совершенства историческая, справедливая интерпретация не растворит его в чистое знание о христианстве и тем погубит его окончательно, мы могли бы наблюдать на всем, что обладает жизнью: именно, что оно перестает жить, раз его разрезали на части без остатка, и что оно влачит болезненное и мучительное существование, когда над ним начинают проделывать опыты исторического анатомирования», — писал Ф. Ницше в статье с характерным названием «О пользе и вреде истории для жизни»8.
Вот от этого знания о христианстве, отчужденного (может быть, и по самой природе рационального знания как такового) — отчужденного от опыта9 христианства, — от этого неизбывного релятивизма исторической науки — бегство Флоренского в платоническую обитель «непреложной истины»: «Легенда не ошибается, работе «Первые шаги философии», — ибо
легенда — это очищенная в горниле времени от всего случайного, просветленная художественно до идеи, возведенная в тип сама действительность»10.
Но это — как и погружение в «архаику» во всем другом — не только «бегство», но и чаяние грядущей новизны, предчувствие грядущей подлинности на развалинах разрушенного рационализма. Ведь «пред бесконечностью вторгающейся отовсюду иррациональности, — пишет П. А. Флоренский, — всякая конечная рациональность оказывается чистым нулем. Мы живем над пучиною огненной лавы, лишь прикрытою тоненькой корочкой „опознанного“; какая беспечность рассчитывать на спокойствие рационалистического мировоззрения!»11 И далее: «…Шаг за шагом неумолимо идущее разрушение рационализма во всех областях, по всем линиям, во всех основах, наконец, разочарование в естествознании как системе жизнепонимания и т. д. и т. д. — все это разве не показывает наступление чего-то нового, совсем нового, — что уже было старым»12.
Вот она — формула «архаизма», а если угодно и христианского «историзма», у о. Павла Флоренского. Подлинно новое , действительно обновляющее, не может не восходить к истокам , не укореняться в истине , древность которой совпадает с непреложностью.
Таково Слово Божие, всегда новое в своей неисчерпаемости и непостижности. Когда-то сщмч. Игнатий Богоносец на апелляцию к древности как критерию истины отвечал: «Но для меня древнее — Иисус Христос, непреложное древнее — Крест Его, Его смерть и воскресение…»13 П. А. Флоренский отвечает апеллирующим к «новизне», но ответ его по существу созвучен сщмч. Игнатию: подлинно новое — это обновленное в истине, непреложность которой совпадает с древностью.
«Разрушение рационализма», кризис рационально-моралистически адаптированной религиозности разворачивает освобожденное, но часто и опустошенное сознание человека кризисной эпохи к тайне Откровения, скорее даже — к Откровению как тайне.
Именно во время войны, почти одновременно со «Столпом и утверждением Истины» о. П. Флоренского, писалась книга Рудольфа Отто «Священное». Универсальную категорию религиозного сознания автор пытается описать здесь не как то, что может быть выражено с помощью понятий (а следовательно и — не как «категорию»), но как невыразимое до конца захватывающее переживание.
«Священное», освобожденное от рационально-этической схематизации, возвращенное из сферы культурного отчуждения (или отчуждения в культуру) к своей иррациональной первичности, — Р. Отто называет нуминозным. А одной из самых значимых характеристик «нуминозного» является в книге Р. Отто некое mysterium tremendum — таинство, заставляющее трепетать. Страх, ужас сопровождает встречу с нуминозным , свидетельствуя о непредсказуемости божества, о его радикальной несоизмеримости с возможностями нашего восприятия и уж тем более — совершенной «недоступности его для понятийного постижения»14.
«Для обозначения момента, вызывающего нуминозный tremor (трепет, ужас), — пишет Р. Отто, — на первое место выходит то „свойство“ numen, которое играет важную роль в нашем Священном Писании и которое своей загадочностью и непостижимостью доставило много трудностей как интерпретаторам, так и вероучителям. Речь идет об orge, гневе Яхве, который и в Новом Завете встречается вновь как orge theoy. <…> Прежде всего, во многих местах Ветхого Завета ощутимо, что этот „гнев“ не имеет ничего общего с нравственностью. <…> Гнев „непредсказуем“ и „произволен“. Тому, кто привык мыслить божество только в рациональных предикатах, это должно казаться капризностью и произволом. Но такую точку зрения решительно отвергли бы набожные люди библейских времен: им это никак не казалось преуменьшением достоинства, но естественным выражением и некоторым моментом самого „священного“, казалось чем-то совершенно неустранимым. И с полным на то правом»15.
Спустя около полугода после выхода книги Рудольфа Отто, о. Павел Флоренский, как бы прорываясь из душно-уютного мира человеческой, «слишком человеческой»
«нравственности» в грозное пространство живого религиозного опыта, напишет: «Любовь, любовь, любовь, и еще любовь… Повторяемое бесчисленное множество раз бесчисленным множеством тех, кто и не подходил к порогу религии, это таинственное слово потеряло всякий смысл. Но, как соединительная ткань, оно разрослось, заполнило собою всю область сознания наших современников и тем оттеснило оттуда все содержание религии. В этом священном слове истинным содержанием ныне стало: „НЕ-РЕЛИГИЯ“, тайный смысл речей о любви всегда, более или менее сознательно, или полусознательно, есть жест вражды против религии. Благовидное перерождение религиозной ткани называется речами о любви»16.
Такой, очеловеченной в духе «гуманитарного альтруизма» «любви», утратившей свое грозное огненное существо, о. Павел Флоренский противопоставляет «страх Божий», остро переживая в этом исповедании страха разрыв с современной ему религиозностью: «„Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас“ (Пс 33:12). Вот слово несовременное, но что же делать: если угодно вам говорить о религии, деле существенно не современном, придется вам помириться и с этим несовременным, но своевременным, всегда своевременным словом „страх“»17. Ведь, если «в таинственных глубинах нашего существа всегда происходит попаление или освящение », то «на поверхности не оставлен ли человек своей тупости и своему легкомыслию? Страшная и попаляющая религия сводится к плоскости распятий-брелков, просфорочек, пасочек, херувимских с руладами иконочек, проповедочек, к одному из бесчисленных развлечений вас, скучающих бездельников и в особенности бездельниц. Ужели так-таки и нет на нас расправы?»18
Подлинная религия и подлинная религиозность, согласно Флоренскому, требуют обращения и обращенности — к тайне. «Столкновение же с нею — ожог и страх»19. Сравнительно с древними культами, «рассчитанный на большую восприимчивость, культ христианский умеряет трагическую глубину своих тайн более сдержанными и сухими формами: если бы огонь, клокочущий в Святой Чаше, являлся в формах, равносильных формам древних, никакая плоть не выдержала бы»20.
Таково введение о. Павла Флоренского в «философию культа», где, опять-таки преодолевая инерцию онтологически выхолощенной рациональности, мыслитель движется к опознанию духовно осязаемой, разрывающей ткань эмпирических покровов, онтологически и аксиологически первичной истины Невидимого. И на этом пути все метафорическое (соотнесенное по существу с поверхностью рациональнопсихологического опыта) истощается до предела: сравнение уступает место тождеству : «„Явися великий Господень Кресте, покажи ми зрак Божественный красоты твоея ныне достойна поклонника хвалы твоея, ибо яко одушевлену тебе и возглашаю и облобызаю“. NB. „Яко“, ως — союз не сравнения, а уравнения; сравн. „Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу“ (ως αληθως). „Яко огнем“ значит не „как бы огнем“, а „огнем“, даже „по преимуществу огнем“. „Яко“ значит „то же и даже более“. Поэтому выражение „яко одушевлену“ значит: „ты одушевлен, даже более чем одушевлен“. Следовательно, тут прямое признание Креста существом одушевленным, а не веществом»21.
У подобного рода сакральной онтологии есть свои богословские риски, и они должны быть выявлены и учтены в богословских исследованиях сочинений о. Павла Флоренского. Но понять религиозную природу этого онтологизма нельзя вне того конкретно-культурно-исторического контекста, где он противостоит многообразным формам номинализма. А в рационально-номиналистическом сознании не остается места вере (как «непосредственному знанию»): рано или поздно она ставится под вопрос.
А. Ф. Лосев вспоминал: «В начале 30-х годов я… встретил в одном месте, не слишком официальном, бывшего ректора Духовной академии, епископа Феодора. <…> Я спросил: „Как Вы такого декадента и символиста, как Флоренский, поставили редактором ‘Богословского вестника’ и дали ему заведовать кафедрой философии?“ — „Все знаю… Символист, связи с Вячеславом Ивановым, с Белым. Но это почти единственный верующий человек во всей Академии был!“ — „Как так?“ — „Судите сами. <…> Когда я стал ректором Академии и познакомился с тем, как ведется преподавание, со мной дурно было. Такой невероятный протестантский идеализм, хуже всякого тюбингентства“»22.
Можно было бы сделать поправку на возможный ригоризм еп. Феодора (Поздеев-ского), если бы ощущение глубокого кризиса в вере и богословии не было присуще, и, как мы видели, задолго до революционных потрясений, самому о. Павлу Флоренскому. Выход из этого кризиса, как показывает Флоренский, возможен лишь на путях уразумения тайны Церкви : «гносеология обращения» раскрывается и осуществляется в горизонте экклезиологии.
С. И. Фудель рассказывает, как однажды М. А. Новоселов, «человек очень сердечный и при этом любящий о. Павла, работающий с ним вместе по защите имяславия от нападок Синода, вдруг начал высказывать сомнение в церковной ценности его работ. Мне было 17 лет, я молчал, но вдруг волнение буквально толкнуло меня в разговор: „Как вы можете так говорить! О. Павел открыл нам Церковь“. Я помню ободряющие глаза моего отца, и — сначала удивление, затем смущенную улыбку и наконец явное одобрение и на лице Новоселова: точно он только и ждал этого моего молодого протеста»23.
У нас есть реальные основания утверждать, что и в советское время (конца 60-х и в 70-е гг.) многие открывали для себя Церковь через книгу о. П. Флоренского, — на разной глубине — проходя путями его «гносеологии обращения».
Список литературы Отец Павел Флоренский - христианский мыслитель эпохи великого кризиса
- Бердяев Н.А. Стилизованное православие. URL: https://www.xpa-spb.ru/ libr/-Florenskij-pro-et-contra-1996/266-Berdyaev-stilizovannoe-pravoslavie-Florenskij. pdf?ysclid=ldkkbag2su342640228 (дата обращения: 17.01.2023).
- Бибихин В.В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М., 2004.
- Игнатий Антиохийский, сщмч. Послание к Филадельфийцам // Писания мужей апостольских. М., 2003.
- Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М. 1990. Т. 1.
- Отто Р. Священное. СПб., 2008.
- Соловьев Э. Ю. Категорический императив нравственности и права. М., 2005.
- Флоренский П., свящ. Догматика и догматизм // Флоренский П., свящ. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1994.
- Флоренский П., свящ. Первые шаги философии // Флоренский П., свящ. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996.
- Флоренский П., свящ. Страх Божий. Чтения о культе. Философия культа. М., 2004.
- Флоровский Г. прот. Пути русского богословия. Paris, 1983.
- Фудель С.И. Об о. Павле Флоренском. Paris, 1988.