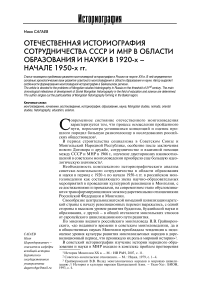Отечественная историография сотрудничества СССР и МНР в области образования и науки в период с 1921 г. по начало 1950-х гг
Автор: Сагаев Наян Цырендоржиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 11, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам развития монголоведной историографии в России на пороге XXI в. В ней определяются основные хронологические вехи развития советского монголоведения в области образования и науки. Автор выделяет особенности формирования монголоведной историографии в Байкальском регионе.
Монголоведение, кочевники, востоковедение, историография, образование, наука
Короткий адрес: https://sciup.org/170165636
IDR: 170165636
Текст научной статьи Отечественная историография сотрудничества СССР и МНР в области образования и науки в период с 1921 г. по начало 1950-х гг
С овременное состояние отечественного монголоведения характеризуется тем, что процесс осмысления пройденного пути, пересмотра устоявшихся концепций и оценок прошлого породил большую разноголосицу в исследованиях российских обществоведов1.
В период строительства социализма в Советском Союзе и Монгольской Народной Республике, особенно после заключения нового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и МНР в 1966 г., изучение двусторонних взаимоотношений в советском монголоведении приобрело еще большую идеологическую значимость2.
Необходимость комплексного историографического анализа советско-монгольского сотрудничества в области образования и науки в период с 1920-х по начало 1950-х гг. в российском монголоведении как составляющего звена научно-образовательных мероприятий в проведении культурной революции в Монголии, с ее достижениями и промахами, на современном этапе обусловливаются трансформирующимися межгосударственными отношениями Российской Федерации и Монголии.
Своеобразие центральноазиатской номадной цивилизации аратской страны к началу революционных перемен выражалось, с одной стороны в высоком уровне развития буддизма, буддийской науки и образования, с другой – в общей отсталости монгольских этносов от европейского цивилизационного пути развития.
САГАЕВ Наян
По мнению видного российского монголоведа В.В. Грайворон-ского, «до недавнего времени в советском монголоведении, да и в общественных науках Монголии преобладала тенденция к недооценке уровня культуры развития монголоязычных народов в дореволюционный период, что принижало их роль в мировой истории»3.
В советской историографии изучение истории народного образования и науки в МНР входило в комплекс проблем претворения в жизнь марксистско-ленинской теории культурной революции.
Наиболее квалифицированной работой в области образования аратской массы в МНР в рассматриваемый период в советской монголоведной литературе была фундаментальная монография бурятского ученого Р.Л. Балдаева «Народное образование в Монгольской Народной Республике»1. В исследовании были учтены основные монголоведные материалы советской ориенталистики по анализируемой проблеме.
Квалифицированным трудом, где отражались достижения монгольского народа в области материальной и духовной культуры в рассматриваемый период, в котором большое место уделялось успехам МНР в области науки и образования, был совместный труд советских и монгольских ученых «Очерки истории культуры МНР»2. Этот труд, без преувеличения, был рубежным методологическим изданием в советской историографии последней трети XX в. В издании наиболее полно отразилась существовавшая тогда партийная установка на проведение культурной революции у монгольских народов при материальной и идеологической помощи Советского Союза.
Период с 1920-х по начало 1950-х гг. характеризовался интенсивным развитием интеграционных образовательных и научных связей между учеными-востоковедами СССР и МНР. Это был плодотворный период формирования светского европейского образования и науки, приведший монголоязычные народы к истинным достижениям духовной, научной мысли человечества.
Хронологические этапы историографии советско-монгольского научно-образовательного сотрудничества, формирования научных монголоведных центров исследований в двух странах, исходя из господствовавшей тогда партийной теории, подразделялись следующим образом: общедемократический, социалистический периоды и период завершения строительства социализма.
Уже 19 ноября 1921 г. был создан Ученый комитет, позднее переименованный в Комитет наук МНР, ставший координи- рующим центром развития монгольской европейской науки и образования в первой половине XX в.
20–40-е гг. XX в. в Монголии характеризуются поисками путей совмещения запрещенной дацанской буддийской школы и формирующейся новой европейской системы образования.
С помощью советских преподавателей «в 1921 г. были организованы краткосрочные курсы в Улан-Баторе, а в феврале 1922 г. открылась специальная школа с двухгодичным сроком обучения, выпустившая в 1925 г. 40 учителей для работы в начальных школах. Только в течение первых двух лет после революции были открыты 12 начальных и одна семилетняя школа в Улан-Баторе с 400 учащимися»3.
Большую помощь в школьном строительстве, в разработке основных принципов просвещения МНР оказывал Советский Союз. На формирование системы народного образования значительное влияние оказывали советские школы для граждан СССР, находившиеся на территории МНР4.
Важнейшей проблемой в стране была адаптация священнослужителей буддийской религии, которые имели качественное буддологическое образование. Как подчеркивал Р.Л. Балдаев, «в 1935 г. в 40 кружках, созданных министерством просвещения, обучались грамоте 2 тыс. низших лам; из них 492 ламы успешно сдали экзамены. Это – важное направление культурных преобразований в Монголии»5.
Отношение аратов к грамоте стало меняться лишь в 30-е гг., когда начали вступать в строй новые промышленные предприятия, фабрики, заводы, оснащенные современной техникой, и развернулось движение за вступление аратов в сельскохозяйственные объединения, когда всюду стала еще более резко ощущаться нехватка грамотных людей6.
Однако, учитывая почти поголовную неграмотность населения с точки зрения европейской культуры, успехи реформы образовательной политики МНР в советской монголоведной науке, без сомнения, носили преувеличенный харак тер. В рабо те российских монголоведов
«История Монголии XX век», вышедшей в 2007 г., наряду с положительными примерами отмечаются и негативные результаты этого процесса: «В 30-х гг. происходят серьезные сдвиги в сфере культуры. Число начальных школ увеличилось с 59 в 1934 г. до 93 в 1939 г., средних – с 5 до 12. Процент грамотных поднялся с 5,8 в 1935 г. до 20,8 в 1940 г. Но все это еще было лишь начало борьбы с неграмотностью. Большинство взрослого населения оставалось неграмотным и малограмотным. Далеко не все дети были охвачены школьным образованием. В 1940 г. детей школьного возраста насчитывалось 130 тыс., а учились только около 10 тыс.»1.
Наиболее остро в общественной мысли монголоязычных этносов в 30-е гг. стоял вопрос развития языка и письменности, сохранения национальной самоидентичности. Идея о культурной и языковой общности монголоязычных народов доминировала до конца 30-х гг. Монголоязычная интеллигенция в области языкового строительства до начала массовых репрессий 30-х гг. исходила из мысли о необходимости создания единого общемонгольского литературного языка.
Считаем верной утверждающуюся в историко-политологической науке России мысль, что разногласия, существовавшие среди монголоязычной интеллигенции по вопросам языка и письменности, перехода на единый алфавит, объяснялись общей отсталостью общественного развития Бурят-Монголии и Монголии в досоветский период.
В российской монголоведной историографии на рубеже XX–XXI вв. актуальными становятся вопросы, вызванные тем, что Монголия в наше время, отказываясь от кириллицы, возвращается к своей исконной старомонгольской письменности. Поэтому подвергаются активной критике проведенные под диктатом МНРП реформы «замены старомонгольского алфавита новым, составленным на основе кириллицы. Многозначный уйгурский алфавит, которым пользовались в Монголии еще с X века, был весьма труден для усвоения, особенно для людей пожилого возраста. Учитывая это обстоятельство, Совет Министров и Президиум ЦК МНРП в марте 1941 г. приняли пос- тановление о введении нового алфавита на основе русской графики и арабских цифр»2.
Идеологическая составляющая этого решения, принятого при непосредственном участии советского руководства, была выражена в следующем заявлении: «Русский алфавит более близок монгольскому народу, чем чуждый для него старомонгольский». Серьезным доводом в пользу нового алфавита был также тот факт, что «вся революционная литература, нужная нашему свободному народу, имеется на русском языке, и большинство национальных кадров с высшим образованием, необходимым в народном хозяйстве», готовится в Советском Союзе3.
В связи с переходом на кириллицу были составлены и изданы новые орфографические правила, орфографический словарь и учебная грамматика.
В советско-монгольской историографии доказывалось, что «новый алфавит, не нарушая преемственности самобытной культуры Монголии, способствовал повышению качества обучения в общеобразовательной школе, во многом содействовал ликвидации неграмотности взрослого населения. Уже к 1947 г. количество грамотных среди населения возросло до 42,2%, что дало возможность с 1950 г. перевести все государственное делопроизводство на новую письменность»4.
Эти цифры заметно отличаются от итоговых цифр, которые даются в работе «История Монголии XX век» (см. табл. 1).
В то же время в советской монголовед-ной науке утверждалось, что «введение нового алфавита было событием большого культурного, общественного и государственного значения. Новый алфавит, не нарушая преемственности самобытной культуры, облегчил обучение грамоте. Он сыграл важную роль в культурном подъеме страны, способствовал повышению качества обучения в школах и росту грамотности населения»5.
Переход на новую графику, что, без сомнения, было важным направлением в образовательной политике МНРП того
Таблица 1
Повышение уровня грамотности населения
|
1935 |
1940 |
1945 |
1950 |
|
|
Численность населения в возрасте от 9 до 50 лет, тыс.чел. |
497,0 |
528,3 |
441,8 |
508,9 |
|
Из них грамотные, всего, тыс. чел. |
36,2 |
127,9 |
263,4 |
374, 2 |
|
В том числе: мужчины женщины |
33,3 2,9 |
105,2 22,7 |
171,1 92,3 |
213,8 160,4 |
|
Грамотность населения, % |
7,3 |
24,2 |
59,6 |
73,5 |
периода, вступал в определенное противоречие с многовековой культурой монголов, чья письменность была построена на уйгурском чистописании.
Как известно, после языковых реформ в Советском Союзе в 30-х гг. XX в. (бурятский язык в 1931 г. был переведен на латиницу и на сонгольский диалект, в 1936 г. – на хоринский диалект, в 1939 г. – на кириллицу) перестал существовать старомонгольский (старобурятский) письменный язык, причисленный к атрибутам панмонголизма, в результате чего народ был отчужден от своего многовекового культурного наследия. Наследие, созданное веками на старомонгольской письменности, стало для народа «тайной за семью печатями». За бортом оказалось богатейшее наследие прошлого: фольклорно-художественные, летописно-хроникальные исторические произведения1.
Тем не менее социалистическая система воспитания привела к тому, что у монголоязычных народов сформировался такой тип духовной культуры, в котором системообразующим фактором стали наука, европейское образование. В современных условиях в монгольском цивилизационном мире прививаемая в советский период идеология марксистского материализма и атеизма активно трансформируется.
Как пишет бурятский исследователь Д.Д. Бадараев, «результаты социологического исследования, проведенного в 2004 году, показали, что, в целом, население положительно отзывается о системе образования, утвержденного в 1991 г. Малым государственным хуралом в законе об образовании»2. Этот закон, отметим, во многом был преемником системы монгольского образования, не без изъянов действовавшей в советский период истории двух стран.
Таким образом, в отечественной историографии находит отражение суть сотрудничества СССР и МНР с 20-х до начала 50-х гг. ХХ в., которое продолжается и в наши дни и является качественным фактором в укреплении современных связей двух стран.