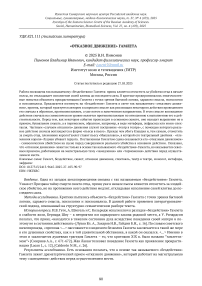«Отказное движение» Гамлета
Бесплатный доступ
Работа посвящена так называемому «бездействию» Гамлета: принц клянется отомстить за убийство отца в начале пьесы, но откладывает исполнение своей клятвы до последнего акта. В критике предпринимались многочисленные попытки объяснить прокрастинацию Гамлета с точки зрения бытовой логики, здравого смысла, психологии и психоанализа. Предлагается взглянуть на «бездействие» Гамлета в свете так называемого «отказного движения», приема, который трактуется автором в широком смысле как реализация некоторого действия проведением его сначала в обратном, противоположном, а уже потом в намеченном направлении. В этом смысле воплощение действия сначала на символическом уровне является противоположным по отношению к выполнению его в действительности. Перед тем, как некоторое событие происходит в основном сюжете, оно находит выражение не в прямом, буквальном смысле, а в переносном, образном, например, в виде метафоры, экфрасиса или миниспектакля. Частным «случаем отказного» движения служит построение «театр в театре», с помощью которого реальное действие сначала воплощается в форме «пьесы в пьесе». Прежде чем убить Клавдия и, тем самым, отомстить за смерть отца, племянник короля Гамлет ставит пьесу «Мышеловка», в которой его театральный двойник «племянник короля» Луциан убивает герцога. Поставленная Гамлетом сцена оказывается его «отказным движением» символическим убийством на сцене перед совершением реального убийства в основном действии. Показано, что «отказное движения» лежит не только в основе так называемого «бездействия» Гамлета, но оказывается сквозным приемом, работающим на магистральную тему «замедления» или «торможения» действия перед осуществлением мести.
Гамлет, бездействие, сюжет, отказное движение, спектакль, театр в театре, монолог, метафора, экфрасис
Короткий адрес: https://sciup.org/148331919
IDR: 148331919 | УДК: 821.111 | DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-103-90-97
Текст научной статьи «Отказное движение» Гамлета
EDN: HKTKRC
Введение. Одна из загадок шекспироведения связана с так называемым «бездействием» Гамлета. Узнав от Призрака тайну смерти своего отца, принц уже в начале пьесы клянется отомстить за злодейское убийство, но на протяжении всего действия медлит, откладывая исполнение своей клятвы до последнего акта.
Методы исследования. Критики пытались объяснить «бездействие» Гамлета с точки зрения бытовой логики, здравого смысла, психологии и психоанализа. В данной работе применен литературоведческий подход, основанный на структурно-семантическом разборе текста.
История вопроса . И.В. Гете, А. Шлегель и С. Кольридж искали ключ к разгадке «бездействия» Гамлета в слабости воли, Бернард Шоу – в неприятии им варварского закона родовой мести, а У. Ричардсон полагал, что принц «находится в тяжелом состоянии духа вследствие поведения своей матери и поэтому не в состоянии действовать» [Луков Вл. А., Захаров Н.В., Гайдин Б.Н., с. 16]. По словам советского шекспироведа, «причина <…> пассивности и видимого безволия Гамлета заключается в такой же мере в его душевных свойствах, как и в той удивительной обстановке, в какой он оказался. <…> Именно в этом и заключается душевная трагедия Гамлета – то, что критикою XIX в. было названо ”гамлетиз-мом”» [Смирнов А.А., с. 671-672]. Жак Лакан толковал поведение Гамлета как проявление прокрастинации [Lacan J., с. 12], [Calderón N.M., с. 26].
Результаты исследования. Есть основания полагать, что в основе так называемого «бездействия» Гамлета лежит драматургический прием «отказного движения», который работает на магистральную тему «замедления» действия перед осуществлением мести.
Поэтика сюжета. Действия персонажа художественного произведения прежде всего подчинены законам поэтики. Именно с этой позиции трактовал шекспировскую пьесу Л.С. Выготский: «Задача сюжета заключается как бы в том, чтобы отклонить фабулу от прямого пути, заставить ее пойти кривыми путями, и, может быть, здесь, в самой этой кривизне развития действия, мы найдем те нужные для трагедии сцепления фактов, ради которых пьеса описывает свою кривую орбиту <...>. Структуру этой трагедии можно выразить при помощи одной чрезвычайно простой формулы. Формула фабулы: Гамлет убивает короля, чтобы отомстить за смерть отца. Формула сюжета: Гамлет не убивает короля. Если содержание трагедии, ее материал рассказывают о том, как Гамлет убивает короля, чтобы отомстить за смерть отца, то сюжет трагедии показывает нам, как он не убивает короля, а когда убивает, то это выходит вовсе не из мести. Таким образом, двойственность фабулы-сюжета — явное протекание действия в двух планах, все время твердое сознание пути и отклонения от него — внутреннее противоречие — заложены в самых основах этой пьесы» [Выготский Л.С., с. 207].
Отказное движение. Попытаемся взглянуть на «бездействие» Гамлета в свете приема, который, пользуясь терминологией Выготского, «отклоняет фабулу от прямого пути». Таким приемом служит «отказное движение», которое можно определить как «подчеркивание некоторого действия проведением его сначала в обратном, а уже потом в заданном направлении» [Щеглов Ю.К., Жолковский А.К., с. 77].
Идея «отказного движения» восходит к В.Э. Мейерхольду, который заимствовал ее из комедии дель арте и использовал в своей режиссерской практике: «…были тщательно разработаны моменты “отказов” — отход перед движением вперед, замах перед ударом, приседание перед подъемом <…>. По словам Мейерхольда, “прежде чем задушить Дездемону, актер должен сыграть сцену безграничной любви к ней”» [Варпаховский Л.В., с. 475].
Теоретическая разработка «отказного движения» в искусстве принадлежит С.М. Эйзенштейну: «То движение, которое вы, желая двинуться в одну сторону, предварительно производите в направлении противоположном (частично или целиком), в практике сценического движения называется движением «отказа» [Эйзенштейн С.М., с. 81].
Этот прием является одним из принципов анимации, использованных Уолтом Диснеем: «танцор, прыгающий с пола вверх, должен сначала согнуть колени; игрок в гольф, делающий замах, должен сначала замахнуться клюшкой назад» [Thomas F., Johnston O., c. 51-52]. Подготовительное действие всегда совершается в направлении, противоположном задуманному, поэтому его и называют отказным: персонаж как бы отказывается от своего действия, прежде чем его совершить.
Цель настоящего исследования – показать, что «отказное движение», отклоняющее фабулу шекспировской пьесы от прямого пути, служит драматургическим приемом, который лежит в основе не только так называемого «бездействия» Гамлета, но обнаруживается на разных участках пьесы, работающих на магистральную тему «замедления» или «торможения» действия перед осуществлением акта мести.
Троянский конь. Прием «отказного движения» мы находим в монологе, который Гамлет просит прочитать Первого актера из труппы столичных трагиков, прибывших в Эльсинор (II.2):
Гамлет …. давайте сразу же монолог (speech); ну-ка, покажите нам образец вашего искусства; ну-ка, страстный монолог (speech).
Первый актер
Какой монолог (speech), мой добрый принц?
Гамлет
Я слышал, как ты однажды читал монолог (speech), но только он никогда не игрался; а если это и было, то не больше одного раза; потому что пьеса, я помню, не понравилась толпе; <…> Один монолог (speech) я в ней особенно любил; это был рассказ (tale) Энея Дидона; и главным образом то место, где он говорит об убиении Приама… [Шекспир У., с. 157].
Гамлет напоминает первую строку, с которой он хочет услышать текст:
Гамлет <…> начните с этой строки (line), позвольте, позвольте:
«Косматый Пирр, с гирканским зверем схожий...». [Там же].
И тут же сам себя поправляет:
Гамлет
Не так; начинается с Пирра:
«Косматый Пирр — тот, чье оружье черно, Как мысль его, и ночи той подобно, Когда в зловещем он лежал коне, (he lay couchèd in th’ ominous horse) Свой мрачный облик ныне изукрасил Еще страшней финифтью; ныне он — Сплошная червлень; весь расцвечен кровью Мужей и жен, сынов и дочерей, Запекшейся от раскаленных улиц, Что льют проклятый и жестокий свет Цареубийству; жгуч огнем и злобой, Обросший липким багрецом, с глазами, Как два карбункула, Пирр ищет старца Приама » ( Pyrrhus / Old grandsire Priam seeks ). [Шекспир У., с. 157-58].
В этом отрывке из рассказа Энея, которого декламирует Гамлет, завуалировано «отказное движение»: сообщается, что перед тем как «Пирр ищет старца Приама » ( Pyrrhus / Old grandsire Priam seeks ) « в зловещем он лежал коне» (he lay couchèd in th’ ominous horse). Иначе говоря, прежде чем подняться для осуществления мести, Пирр лежал в зловещем коне.
Речь здесь идет о Троянском коне. Во время войны с Троей ахейцы после длительной и безуспешной осады построили огромного деревянного коня, которого оставили у стен Трои, а сами сделали вид, что отплыли на кораблях от берега Троады. Не прислушавшись к предостережениям пророчицы Кассандры, троянцы втащили коня в город. Ночью греческие воины, которые прятались внутри коня, вышли из него, уничтожили стражу, открыли городские ворота, впустили вернувшихся на кораблях товарищей и овладели Троей (см. «Одиссея», VIII, 493 и сл.; «Энеида» II, 15 и сл.).
В основе мифа о Троянском коне лежит «отказное движение»: прежде чем войти в Трою, войска ахейцев отошли (отплыли) от нее.
Двойная роль. В тот момент, когда Гамлет декламирует отрывок из рассказа Энея, на сцене незримо присутствует Дидона, ведь Эней обращается именно к ней. Функционально в роли воображаемой Дидоны невольно оказывается Первый актер, которому Гамлет от лица Энея читает отрывок из рассказа. В свою очередь в роли Энея функционально выступает Гамлет.
Далее Гамлет передает слово Первому актеру, предлагая ему продолжить чтение.
Гамлет
Так, продолжайте вы.
Гамлет и Первый актер меняются ролями. Теперь функционально в роли Дидоны оказывается сам Гамлет, внимающий рассказу Энея в исполнении Первого Актера:
Первый актер
«Вот его находит он
Вотще разящим греков; ветхий меч, Руке строптивый, лег, где опустился, Не внемля воле; Пирр в неравный бой Спешит к Приаму; буйно замахнулся Уже от свиста дикого меча Царь падает. Бездушный Илион,
Как будто чуя этот взмах, склоняет Горящее чело и жутким треском Пленяет Пирров слух; и меч его, Вознесшийся над млечною главою Маститого Приама, точно замер. Так Пирр стоял, как изверг на картине, И, словно чуждый воле и свершенью, Бездействовал .
Но как мы часто видим пред грозой — Молчанье в небе, тучи недвижимы, Безгласны ветры, и земля внизу
Тиха, как смерть, и вдруг ужасным громом Разодран воздух; так, помедлив, Пирра Проснувшаяся месть влечет к делам;
И никогда не падали, куя, На броню Марса молоты Циклопов Так яростно, как Пирров меч кровавый Пал на Приама . <…>» [Шекспир, У, с. 159, 161].
First Player.
Anon he finds him
Striking too short at Greeks. His antique sword, Rebellious to his arm, lies where it falls, Repugnant to command. Unequal matched, Pyrrhus at Priam drives, in rage strikes wide ; But with the whiff and wind of his fell sword Th’ unnervèd father falls. ⟨Then senseless Ilium⟩ Seeming to feel this blow, with flaming top Stoops to his base, and with a hideous crash Takes prisoner Pyrrhus’ ear. For lo, his sword, Which was declining on the milky head Of reverend Priam, seemed i’ th’ air to stick.
So as a painted tyrant Pyrrhus stood And, like a neutral to his will and matter, Did nothing.
But as we often see against some storm A silence in the heavens, the rack stand still, The bold winds speechless, and the orb below As hush as death, anon the dreadful thunder Doth rend the region; so, after Pyrrhus’ pause, Arousèd vengeance sets him new a-work, And never did the Cyclops’ hammers fall On Mars’s armor, forged for proof eterne, With less remorse than Pyrrhus’ bleeding sword Now falls on Priam.
[Шекспир, У, с. 158, 160].
В этой сцене почти с графической наглядностью изображено «отказное движение» Пирра перед нанесением смертельного удара: сначала он «замахнулся» (strikes wide) мечом, затем будто застыл – «бездействовал» (did nothing), и только потом его меч «пал» (falls) на голову Приама.
Это «отказное движение» также выражено на образном уровне – сравнением мгновения перед убийством с затишьем перед грозой («мы часто видим пред грозой — / Молчанье в небе»).
События и персонажи Троянской войны, о которых говорится в рассказе Энея, перекликаются с событиями и персонажами шекспировской трагедии.
Гамлет, племянник короля Клавдия , читает отрывок из рассказа Энея, племянника царя Приама (отец Энея Анхиз - кузен Приама [Виллани: 14]. Возникает параллель между племянником -Гамлетом – будущим убийцей Клавдия (мстителем за смерть отца) и племянником -Энеем – будущим убийцей Турна (мстителем за смерть своего друга Палланта от руки Турна).
При этом если Гамлет, как было отмечено выше, в функциональном смысле оказывается в роли Энея (когда декламирует его рассказ о Пирре), то как персонаж, выступающий во «вторичной» роли актера внутри основного действия, он играет и роль Пирра.
И хотя в рассказе Энея об убийстве Приама тема мести не подана в явном виде, тем не менее во время чтения монолога Первым актером в воображении зрителя возникает образ разъяренного Пирра – сына, одержимого желанием отомстить за смерть отца.
Таким образом, Гамлет выступает в двоякой роли: с одной стороны, функционально – в роли Энея (когда декламирует его рассказ об убийстве Приама Пирром), а с другой — символически в роли Пирра.
Напомним, что отец Пирра Ахилл, согласно эпосам, был убит Парисом, сыном Приама. Таким образом, убивая Приама – отца Париса – Пирр мстит за убийство своего отца.
Тем самым фигура Пирра перекликается с фигурой Гамлета по линии мотива мщения за смерть отца. Снова мы имеем дело с приемом «отказного движения»: прежде чем отомстить за убийство своего отца в буквальном смысле, то есть в основном действии пьесы , Гамлет осуществляет месть за отца символическом смысле, противоположном буквальному, выступая в сценической роли Пирра.
Не только рассказ Энея содержит в себе описание «отказного движения» персонажа-мстителя (Пирра), но вся сцена с Первым актером, исполняющим монолог Энея, оказывается «отказным движением» самого Гамлета, сыграшего в ней символическую роль мстителя в организованном им миниспектакле внутри основного действия.
Мышеловка. «Отказное движение» нередко трактуют в психологическом и композиционном смысле [Варпаховский Л.В., с. 475]. Мы понимаем этот прием в более общем и широком смысле - как движение в противоположном направлении от изначально намеченного . Это может выражаться в том, что перед тем, как совершается реальное действие внутри основного сюжета, вначале оно выражено в символическом смысле, в частности, в театральном представлении.
Сначала убийство соверашается на сцене, а потом уже – в реальной жизни. В таком случае «отказное движение» реализуется театральным методом - постановкой «пьесы в пьесе».
В этом смысле центральным «отказным движением» в пьесе оказывается вставной спектакль «Мышеловка», поставленный Гамлетом до того, как он мстит королю за смерть отца в реальной жизни. Образно говоря, «Мышеловка» – это «троянский конь» принца Гамлета в войне с Клавдием.
Перед «Мышеловкой», призванной напомнить Клавдию о совершенном им убийстве, Гамлет совершает символическое «отказное движение» в противоположном направлении , а именно: делает вид, что пьеса не имеет ни малейшего отношения к Клавдию: «Эта пьеса изображает убийство, совершенное в Вене; имя герцога – Гонзаго; его жена – Баптиста; вы сейчас увидите; это подлая история; но не все ли равно? Вашего величества и нас, у которых душа чиста, это не касается» [Шекспир У., с. 211].
Прежде чем убить Клавдия и тем самым отомстить за смерть отца, племянник короля Гамлет ставит пьесу, в которой его театральный двойник – «племянник короля» Луциан убивает герцога.
Прежде чем совершить реальное действие, Гамлет совершает действие символическое: ставит сцену убийства в театре.
Немота. «Отказное движение» присутствует и внутри самой «Мышеловки». Вспомним, что во время представления говорит Гамлет актеру, исполняющего роль Луциана:
Гамлет
Начинай, убийца. Да брось же свои проклятые ужимки и начинай.
Ну: «Взывает к мщенью каркающий ворон» [Шекспир У., c. 213].
«Ужимки» – это пантомима, то есть немое действие, противоположное словесному действию – исполнению монолога. Немота перед тем, как звучит речь – это «отказное движение», поскольку немота – состояние, противоположное речи.
Луциан исполняет монолог убийцы, который подготавливает зрителя к тому, что он убьет герцога Гонзаго. Монолог убийцы – это театральное «отказное движение» перед тем, как совершается «реальное» убийство.
Призывая Луциана «бросить проклятые ужимки» и приступать к декламации монолога, Гамлет сам произносит первые строки из него. В структурном отношении эта ситуация перекликается со сценой, в которой Гамлет просит Первого актера прочитать монолог Энея, и сам начинает читать его.
Монолог Энея описывает «отказное движение» Пирра – его «бездействие» перед убийством Приама. Монолог Луциана перед убийством сценического герцога Гонзаго – это «отказное движение» самого Гамлета – его «бездействие» перед убийством Клавдия в финале трагедии.
Дело в том, что автор монолога Луциана – сам Гамлет. Вспомним репетицию перед спектаклем. Гамлет – в роли режиссера – обращается к Первому актеру:
Гамлет. Произносите монолог, прошу вас, как я вам его прочел, легким языком; а если вы станете его горланить, как это у вас делают многие актеры, то мне было бы одинаково приятно, если бы мои строки читал бирюч.
(III, 2)
[Шекспир, У, с. 189].
Гамлет говорит: «мои строки» (my lines). Это указывает на то, что речь идет о монологе, который во время своей первой встречи с актерами он собирался написать и вставить в старую итальянскую пьесу «Убийство Гонзаго»:
Гамлет
Вы могли бы, если потребуется, выучить монолог в каких-нибудь двенадцать или шестнадцать строк, которые я бы сочинил и вставил туда? Могли бы вы?
Первый актер
Да, принц.
[Шекспир, У, с. 165].
Очевидно, что Гамлет репетирует написанный им монолог с Первый актером, которому предстоит сыграть в пьесе роль Луциана – «племянника короля» и убийцы. Важная параллель: тот же самый Первый актер, с которым Гамлет репетирует свои строки (my lines), читал Гамлету монолог Энея о Пирре.
Приведем первые строки монолога Луциана в «Мышеловке»:
Луциан
«Рука тверда, дух черен …»
(«Thoughts black, hands apt»)
[Шекспир, У, с. 212,213].
Слова «дух черен», характеризующие Луциана, перекликаются по линии мотива «черноты» с характеристикой Пирра, «чье оружье черно, / Как мысль его, и ночи той подобно» (”whose sable arms, / Black as his purpose, did the night resemble”) [Шекспир У., с. 156, 157].
Таким образом, прослеживается параллель, с одной стороны, между Пирром и Луцианом, а с другой – между Луцианом и Гамлетом – двумя «племянниками короля», оба из которых совершают убийство.
Сценический убийца – племянник короля Луциан убивает сценического, то есть «ненастоящего» герцога, а племянник короля Гамлет – убивает Клавдия, в образном смысле, тоже «ненастоящего» короля, поскольку тот занял трон обманным путем, убив своего брата. Сцена с Луцианом, поставленная Гамлетом, оказывается его «отказным движением» - символическим убийством на сцене перед совершением реального убийства в основном действии.
Меч над головой. Образная параллель между Пирром, занесшим меч над головой Приама (в рассказе Энея), и Гамлетом основана не только на мотиве «мести», но и на «отказном движении», выраженном в «бездействии» и «отсрочке мести».
Вспомним монолог, который произносит Гамлет, наблюдая за «молящимся» Клавдием после «Мышеловки» (III.3).
Гамлет
Теперь свершить бы все, — он на молитве;
И я свершу; и он взойдет на небо;
И я отмщен. Здесь требуется взвесить: Отец мой гибнет от руки злодея, И этого злодея сам я шлю
Но по тому, как можем мы судить, С ним тяжело: и буду ль я отмщен, Сразив убийцу в чистый миг молитвы, Когда он в путь снаряжен и готов?
Нет.
Назад, мой меч, узнай страшней обхват…
(Up, sword, and know thou a more horrid hent…) [Шекспир У., с. 235]
Гамлет уже как бы заносит свой меч (в данном контексте – в символическом смысле) над головой Клавдия, но в последний момент останавливается и так и не наносит удара возмездия. «Отказное движение» выражено здесь графически: меч направлен сверху вниз – на голову короля, стоящего на коленях в молитве, но в последний момент меч отводится назад – поднимается снизу вверх (up, sword). Занесенный в этой сцене символический меч выполнит свою работу в финале пьесы: «Так ступай, / Отравленная сталь по назначенью!» (The point envenom’d too / Then, venom, to thy work! [Шекспир У., с. 390], восклицает Гамлет, закалывая короля.
Слова Энея о мече Пирра, занесенном над головой Приама, оказываются предвестием сцены, в которой Гамлет заносит меч над головой Клавдия. При этом, если в монологе Энея о Пирре «отказное движение» представлено визуально, как «на картине», что превращает рассказ в экфрасис, то в случае с Гамлетом его «отказное движение» выражено в театральной ремарке (как бы в реплике сторону): «Назад, мой меч» (Up, sword).
Выводы . «Отказное движения» лежит не только в основе так называемого «бездействия» Гамлета, но оказывается сквозным приемом, работающим на магистральную тему «замедления» или «торможения» действия перед осуществлением мести. Мы понимаем этот прием как движение в противоположном направлении от изначально намеченного . Перед тем как совершается реальное действие, оно выражается на символическом уровне, например, в виде метафоры или экфрасиса. Частным «случаем отказного» движения служит построение «театр в театре», с помощью которого реальное действие сначала воплощается в театральной форме.